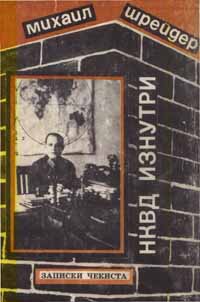Скачано 7519 раз
Скачать книгу в формате e-Book(fb2)
Михаил Шрейдер
НКВД изнутри. Записки чекиста

Введение
Автор воспоминаний — М. П. Шрейдер — проработал в системе ВЧК-ОГПУ-НКВД около двадцати лет: начиная с гражданской войны и по 1938 год включительно. Занимал различные должности в центральном аппарате ОГПУ-НКВД, служил в некоторых областных управлениях, а в 1938 году был назначен на пост замминистра НКВД Казахской ССР. В том же году был арестован по прямому приказу Ежова.
По своему служебному положению в течение многих лет автор был связан с огромным количеством людей, чья деятельность непосредственно влияла на жизнь страны в целом. Подробно описывая свою жизнь, автор дает читателю редчайшую возможность увидеть изнутри сталинскую карательную машину глазами человека, который сам был составной частью этой машины и просматривал ее снизу доверху: в буквальном смысле — от расстрельных подвалов до кабинета Берии. Перемещаясь вслед за автором внутри репрессивной системы, читатель имеет возможность увидеть работу «органов» не просто в какой-то отдельно взятый период, а в исторической динамике многих предвоенных лет. Конкретно это означает, что можно пронаблюдать, как карательная машина программировалась, отлаживалась, совершенствовалась, как испытывалась на «пробных» запусках, прежде чем была запущена на полные обороты, как вытесняла изнутри и подменяла собой советские, партийные и хозяйственные структуры, забирая в свои руки все функции государственного контроля и управления, и, наконец, как, став абсолютно замкнутой и фактически неподконтрольной — «государством в государстве»,— стала работать сама на себя и пошла вразнос...
Во всем вышесказанном нет преувеличений.
Перед нами — уникальное свидетельство, единственное в своем роде. Уникальное еще и потому, что подобной «утечки» информации не должно было быть: свидетелей такого ранга — «своих» — система уничтожала с особой тщательностью. Людей, которые подобно М.П.Шрейдеру занимали достаточно высокие должности в центральном аппарате НКВД и в областях (на уровне начальников областных управлений и их заместителей), обычно без суда расстреливали в подвалах тех тюрем, где проводили следствие. Автор уцелел благодаря невероятному стечению обстоятельств.
Много лет назад на Западе вышло несколько книг, написанных бывшими чекистами-перебежчиками. Но в те времена свидетельства подобного рода не могли иметь существенного резонанса: германский фашизм, намного более открытый во всех своих проявлениях, в предвоенные годы приковывал к себе куда больше внимания, чем тайно истязаемый советский народ. Да и не было в рассказах беглецов той профессиональной полноты сведений, которой обладал М. П. Шнейдер, брошенный в жернова сталинско-ежовской мельницы.
Сегодняшний читатель вооружен уже некоторой исторической полнотой взгляда на тридцатые годы. Сегодня свидетельство М. П. Шнейдера помогает понять не только особенности сталинской карательной машины, но и в целом структурную природу тоталитаризма, когда сами понятия «государство» и «репрессивная система» по сути становятся идентичными. Достаточно сказать, что после появления Ежова в руководстве НКВД ни один секретарь обкома, ни один председатель облисполкома, ни один руководитель республиканского масштаба не назначался на должность без предварительного согласия начальника областного (или республиканского) управления НКВД (что, само собой разумеется, отнюдь не гарантировало личную безопасность руководителю от тех же репрессивных органов).
Вдумчивый читатель, безусловно, обратит внимание на тот факт, что количество «врагов народа» уже в 1936 году заранее планировалось в центре, после чего программа по «разоблачению» разверстывалась на республики, края и области и становилась обязательной для исполнения. Существовали (при Ежове) заранее установленные лимиты на расстрелы без суда и следствия. Это означало, что начальник областного управления НКВД по своему усмотрению имел право расстреливать без суда сотни людей. «Перевыполнение» активно поощрялось (денежные премии, ордена, повышения по службе). То, что в глазах невинного человека представало как чистый абсурд (а это во многих арестованных вселяло надежду на то, что абсурд быстро выявится и невиновный будет освобожден), то внутри карательной машины оборачивалось логически завершенной и хорошо продуманной системой стимулов и поощрений. В результате все стимулы сводились к одному: уничтожение ради уничтожения... Наверняка запомнит читатель и тот факт, что газовые машины-душегубки, о которых в нашей послевоенной литературе писалось как об одном из самых бесчеловечных изобретений фашизма, применялись отечественными палачами (в том же Иванове, например) задолго до войны с гитлеровцами.
Не будем, однако, опережать события. Заметим только, что автор был человеком своего времени. Как и миллионы его сверстников, чье мировоззрение сформировалось в годы революционной молодости, он не в состоянии был понять всю утопичность и историческую бесперспективность большевистских идей и все, что видел и о чем писал, воспринимал как искажение этих идей. Подсознательно он стоял на позициях «революционного правосознания», мерилом которого — в отсутствие элементарной правовой базы в государстве — считал «честный профессионализм». Другими словами, он не признавал «липовых» дел и людей, которые на его глазах фабриковали такие дела. Он не занимается «врагами народа» и не «гонит липу». Он занимается своим прямым делом: борьбой с уголовной преступностью, которая в годы массовых репрессий росла как на дрожжах. Но милиция, являвшаяся в те годы составной частью Министерства госбезопасности, самостоятельной роли не играла. Автор из моральных и профессиональных соображений на своем должностном уровне запрещал своим подчиненным заниматься несвойственным им делом, и это противоречило той программе, но которой уже работала карательная машина.
И Островский рассказал, что накануне из ленинградского управления погранохраны, возглавляемого Ф.Т.Фоминым (автором вышедших в 60-е годы «Записок старого чекиста»), сотрудники отделения по борьбе с контрабандой Ю. и Ф. привезли Буланову какие-то посылки с контрабандными вещами для высшего начальства и Буланов тут же повесил им на грудь знаки «Почетный чекист».
— Ты вот меня ругаешь, что я боюсь Буланова, — продолжал Островский. — Я прекрасно знаю, что он — ничтожество, но мне приходится приспосабливаться к его настроениям, ведь он теперь все равно что сам Ягода и может наградить или угробить любого из нас. Такая вот сейчас обстановка.
Следует отметить, что Ю. был хорошим оперативником и, возможно, заслуживал награждения, но то, что оно произошло в такой ситуации, было глубоко оскорбительным для любого порядочного чекиста.
Надо сказать, что еще с конца двадцатых годов многие руководящие работники ОГПУ, соратники и ученики Дзержинского, осуждали линию поведения Ягоды, выражавшуюся не только в поощрениях и задариваниях подхалимов и подпевал, но, главное, в тенденции «сверхусиленной бдительности», а в отдельных случаях — прямого раздувания «липовых» дел.
Году в 1931-м или 1932-м заместитель председателя ОГПУ Мессинг*1, начальник административного отдела Воронцов*2, начальник особого отдела Ольский*3, полпред ОГПУ по Московской области Бельский*4, начальник секретно-оперативного управления Евдокимов*5 и кто-то еще подали заявление в ЦК ВКП(б) с жалобой на Ягоду, ориентирующего периферийные органы на создание «раздутых» дел (насколько я слышал, речь шла об Украине, Ростове-на-Дону, Северном Кавказе и Закавказье), где были арестованы значительные группы бывших офицеров и прочих контрреволюционно настроенных элементов без достаточных оснований и конкретных обвинений. Вместо тщательной проверки материалов обвинения Ягода поспешил доложить в ЦК о раскрытии «заговоров» и т.п.
_____
*1. Мессинг С. А. — один из ветеранов ВЧК-ОГПУ, с 1932 года — на ответственной работе в Наркомате внешней торговли СССР, в момент ареста — председатель Советско-Монгольско-Тувинской торговой палаты. Расстрелян или умер в заключении после 1937 года.
*2. По всей вероятности, имеется в виду начальник Главного управления пограничной охраны и войск ОГПУ И.А. Воронцов, занимавший эту должность до 1932 года. На момент ареста — главный инспектор Наркомата пищевой промышленности СССР. Расстрелян в 1937 году.
*3. Ольский Я.К. — с 1932 года работал начальником управления ресторанов, кафе и столовых Наркомата пищевой промышленности СССР. Расстрелян в 1938 году.
*4. Вельский (Левин) Л.Н. — комиссар госбезопасности 2-го ранга, зам.наркома внутренних дел СССР, начальник Гладкого управления Рабоче-Крестьянской милиции, затем зам.наркома путей сообщения СССР. Расстрелян или умер в заключении около 1939 года.
*5. Евдокимов Е. Г. — с 1932 по 1937 гг. первый секретарь Азово-Черноморского крайкома ВКП(б), затем заместитель наркома водного транспорта СССР. Расстрелян в 1940-м или 1941 году.
Заявление группы руководящих работников ОГПУ слушалось на заседании Политбюро, и, как мне потом рассказывал Л.Н. Бельский, Сталин, выслушав его, сказал примерно следующее: «Мы никому не позволим позорить наши органы и клеветать на них. Люди, подписавшие это заявление, — склочники, и их пребывание в ОГПУ может принести только вред, так как они не смогут вести должной борьбы с вредителями». Поздно ночью в тот же день Вельский и другие жалобщики получили пакеты с выписками из решения Политбюро об их откомандировании из ОГПУ в другие наркоматы. Вельский, Ольский и Воронцов были направлены на работу в Наркомпищепром. Мессинг, по словам его жены, чуть ли не год оставался без назначения.
Один Евдокимов, кажется, остался в органах. Надо иметь в виду, что он был единственным работником ОГПУ, награжденным четырьмя орденами Боевого Красного Знамени, и, несмотря на ягодинские интриги, его авторитет как героя гражданской войны был очень велик*3. Кроме того, его поддерживали Ворошилов, Микоян и ряд других членов ЦК.
_____
*3. В годы гражданской войны Е. Г. Евдокимов был награжден двумя орденами Красного Знамени, два других получены им в 20 —30-е годы.
Года полтора спустя в одном из своих выступлений «нарком изобилия», как называли тогда Микояна, особо отметил отличную работу чекистов на пищепромовском поприще, после чего Вельский был возвращен на работу в органы на пост начальника Главного управления милиции и заместителя наркома внутренних дел СССР.
Групповая жалоба на Ягоду принесла все же некоторую пользу: с целью укрепления органов ОГПУ и усиления партийного контроля на должность первого заместителя Менжинского был выдвинут старый большевик Акулов*1 с группой партработников, в числе которых был, в частности, Булатов*2, назначенный начальником отдела кадров ОГПУ.
_____
*1. Акулов И. А. — впоследствии занимал пост прокурора СССР, а за тем, до ареста в 1937 году, — секретаря ЦИК СССР. Расстрелян в 1938 году.
*2. Булатов Д. А. — к моменту ареста первый секретарь Омского обкома партии. Расстрелян в 1941 году.
На некоторое время Ягода был отодвинут на второй план, и Акулову удалось в короткий промежуток времени повысить роль партийных организаций в органах, в частности, им были организованы Курсы высшего руководящего состава ОГПУ (КВРС), и вообще он всячески популяризировал идею Дзержинского о том, что только настоящий коммунист может быть хорошим чекистом.
Однако чувствовалось, что Ягода, претендовавший на роль первого зампреда (а фактически, если учитывать тяжелую болезнь Менжинского, и на роль председателя ОГПУ), был крайне недоволен назначением Акулова, и вокруг последнего вскоре начались закулисные интриги. Мы, конечно, не знали всех подробностей, но явно ощущали эту скрытую борьбу между ягодинцами и группой большевика-ленинца Акулова; борьбу, из которой Ягода в конце концов вышел победителем.
Характерной для различия позиций, занимаемых Ягодой и Акуловым, была оценка вскрытого мною летом 1932 года дела о массовом хищении спирта на Казанском пороховом заводе (я был тогда начальником экономического отдела ГПУ Татарии). По делу проходило 39 работников ГПУ Татарии. Акулов, поддерживаемый Менжинским, настаивал, чтобы всех участников хищений и взяточников, состоявших на службе в органах, судили по всей строгости на общих основаниях. Ягода же считал, что это будет позором для органов, а потому всех этих преступников надо тихо, без шума снять с работ и отправить служить куда-нибудь на периферию, в частности в лагеря. Так же разошлись мнения Менжинского и Акулова, с одной стороны, и Ягоды, с другой, по вопросу об отдаче под суд начальника ГПУ Татарии Кандыбина*1, который хотя и не участвовал в хищениях, но пьянствовал вместе со своими подчиненными и обязан был знать, откуда они достают спирт. Я не говорю уже о том, что известны были факты принуждения Кандыбиным к сожительству жен сотрудников ОГПУ и жены одного из подследственных. Несмотря на то, что Менжинский и Акулов настаивали на привлечении Кандыбина к суду, Ягода, пользуясь поддержкой Кагановича, работавшего некогда с Кандыбиным, отстоял последнего.
Когда же речь заходила о тех, кто по разным причинам отрицательно относился к Ягоде, то они, как правило, под разными предлогами убирались из органов. Так, например, бывший начальник иностранного отдела ОГПУ Трилиссер, переведенный на должность одного из зампредов ОГПУ, был «выдвинут» секретарем Коминтерна, где работал под фамилией Москвин (в 1937 году он был арестован и расстрелян по провокационному делу).
_____
*1. Правильное название этой должности в те годы — полномочный представитель ОГПУ. Д. Я. Кандыбин был уволен из системы ОГПУ и впоследствии прославился как одни из самых свирепых судей, вынесших огромное количество смертных приговоров. Репрессирован не был ни в годы массовых репрессий, ни после смерти Сталина.
Не сработался с Ягодой, как я уже говорил, и Е. Г. Евдокимов, в результате переведенный на должность первого секретаря Азово-Черноморского крайкома ВКП(б). Впоследствии, когда наркомом внутренних дел и одновременно наркомом водного транспорта стал Ежов, Евдокимов был вызван в Москву и назначен его заместителем по Наркомводу, но вскоре был арестован и расстрелян.
Замечу, однако, что в прошлом, когда Евдокимов был полпредом ОГПУ по Северному Кавказу, он проявил неразборчивость в кадровых вопросах, в результате чего под его началом оказались те, кто в последующие годы принимал участие в уничтожении лучших чекистских и партийных кадров. Я имею в виду Фриновского, ставшего первым заместителем Ежова; бывшего офицера царской армии подлеца Джурит-Николаева*1, возглавлявшего при Ежове один из отделов, наиболее активно проводивших следствие по «новым методам»; зверствовавшего в Новосибирске в 1937 — 38 годах начальника УНКВД Горбача*2 и ряд других. Не исключено, что Евдокимов в конце концов стал жертвой своих бывших подчиненных.
_____
*1. Правильно — Никалаев-Журид Н. Г. — комиссар госбезопасности 3-го ранга, начальник следственного, а затем контрразведывательного отдела ГУГБ НКВД СССР. Расстрелян в 1940 году.
*2. Горбач Е. Ф. — старший майор госбезопасности, начальник УНКВД по Дальневосточному краю. Расстрелян в 1939 году.
Не продержался долго в Москве и бывший председатель ГПУ Украины Балицкий*1, назначенный было одним из заместителей председателя ОГПУ. «Не сработавшись» с Ягодой, он вскоре уехал, кажется, снова на Украину.
_____
*1. Балицкий В. А. — комиссар госбезопасности 1-го ранга, нарком внутренних дел УССР, на момент ареста — начальник УНКВД по Дальневосточному краю. Расстрелян в 1938 году.
Между прочим, Балицкий привез в Москву целую группу украинских чекистов, в том числе Леплевского*1, Федю Александровича, Письменного, Ушакова, Люшкова*2, Когана*3 и ряд других. Двое последних стали ежовскими выдвиженцами.
_____
*1. Леплевский И. М. — комиссар госбезопасности 2-го ранга, зам. нар кома внутренних дел УССР. Расстрелян в 1938 году.
*2. Люшков Г. С. — комиссар госбезопасности 3-го ранга, начальник УНКВД по Дальневосточному краю. В 1938 году бежал в Японию.
*3. Коган Л. В. — майор госбезопасности, пом.начальника секретно-политического отдела ГУГБ НКВД СССР. Расстрелян в 1938 году.
С начала тридцатых годов популярность Ягоды все более и более возрастала. Поскольку под его руководством проводилось строительство Беломорканала и осуществлялся ряд других важных строек, он был постоянным докладчиком Сталина по этим вопросам, что, по-видимому, способствовало все более близким их взаимоотношениям, причем Ягода постоянно изыскивал поводы для докладов о «головокружительных успехах» органов.
Конечно, Ягода, как я уже говорил, обладал большими организаторскими способностями, но основой достижений в области строительства было все же то обстоятельство, что с начала тридцатых годов ОГПУ располагало самыми, может быть, сильными кадрами инженерно-технических работников (из числа заключенных, разумеется). В среде чекистов из уст в уста передавался такой эпизод. Как-то на заседании ЦК Сталин упрекнул Орджоникидзе в том, что у него плохо идут дела на некоторых важных стройках, поставив в пример положение на стройках, осуществлявшихся силами заключенных. «Пусть Ягода отдаст мне тех замечательных инженеров, которые руководят строительством объектов, подведомственных ОГПУ, — сказал якобы Серго, — тогда мои стройки будут не хуже, а лучше, чем у него». Лично мне об этом рассказывал бывший начальник экономического управления ОГПУ Миронов, причем мне казалось, что он при этом больше сочувствует Орджоникидзе.
Мне, кстати сказать, и раньше было известно отрицательное отношение Миронова (а также Прокофьева*1, Агранова и ряда других руководящих работников ОГПУ) к Ягоде, но постепенно, особенно после потерпевшей крах попытки групповой жалобы на него Сталину, все они убедились, что борьба бесполезна и что Ягода действует не по своему усмотрению, а выполняет волю Сталина, которого уже тогда почти все боготворили.
_____
*1. Прокофьев Г. Е. — комиссар госбезопасности 1-го ранга, зам. нар кома внутренних дел СССР, к моменту ареста — первый зам. наркома связи СССР. Расстрелян или умер в заключении в 1937 году.
Ослепленные расцветающим культом личности Сталина, многие работники органов начинали терять ориентировку и не могли различить, где кончалась ленинская линия и начиналось нечто совершенно ей чуждое. Постепенно большинство из них попали под влияние Ягоды и стали послушным орудием в его руках, выполняя задания, все более и более отклоняющиеся от линии Ленина — Дзержинского.
В 1934 году Сталин в сопровождении Ягоды выезжал на открытие Беломорканала, после чего в газетах появились хвалебные статьи об организаторских способностях Ягоды и фотография Сталина и Ягоды, где они были изображены чуть ли не в обнимку. Видя все это, чекисты понимали, что, хотя председателем ОГПУ числится Менжинский, фактически же вся власть сосредоточена в руках Ягоды.
Теперь о знакомстве с одним из первых «липачей» — Успенским*1, который, как я слышал, был когда-то в Туле рядовым милиционером, но благодаря поддержке тогдашнего председателя Тульской губчека Матсона буквально в течение нескольких лет сделал невероятную карьеру, про двигаясь на все более и более высокие оперативные должности.
_____
*1. Успенский А. И. — комиссар госбезопасности 3-го ранга, нарком внутренних дел УССР. Расстрелян в 1938 году.
Впервые я увидел Успенского в 1928 году, когда он, будучи начальником экономического управления ГПУ Урала, приезжал в Москву для проведения совместно с работниками центра следствия по делу английских фирм «Лена-Голдфилдс» и «Метро-Виккерс», имевших концессии на золотых приисках в Бодайбо.
Следствием было установлено, что ряд англичан и некоторая часть советских специалистов, работавших до революции у владельцев прииска, варварски вели разработки, пытаясь поскорее вывести прииск из строя. Кроме того, они развернули огромную сеть шпионажа по Сибири, Уралу, а также в городах Европейской части СССР, включая Москву. По этому делу было много арестованных. Часть из них — в основном, английские подданные — были привезены в Москву, где заканчивалось следствие, а затем состоялся открытый суд в Колонном зале Дома союзов. Другая часть подследственных оставалась на Урале, где все они затем были осуждены на различные сроки.
Из работников экономического управления ОГПУ в следствии по этому делу принимали участие Николай Счастливцев, Апресян*1 и Эмиль Зибрак. Все трое в то время были добросовестными и хорошими работниками.
_____
*1. Апресян Д. 3. — майор госбезопасности, нарком внутренних дел Узбекской ССР. Расстрелян в 1939 (?) году.
Незадолго до окончания следствия я был свидетелем следующего разговора, происходившего в кабинете начальника 8-го отделения экономического управления М.И.Гая*1.
_____
*1. М. И. — комиссар госбезопасности 2-го ранга, начальник особого отдела ГУГБ НКВД СССР. Расстрелян в 1938 году.
Докладывая Гаю о показаниях кого-то из подследственных, Счастливцев высказал сомнения в их правдивости. Поскольку допросы проходили в Свердловске, Счастливцев высказал предположение, что показания эти даны под нажимом Успенского. При этом он приводил ряд доводов, на основании которых у него эти сомнения возникли.
— Брось трепаться, — сказал Гай. — Успенский знает, что делает, он опытный оперативник.
Но Гай махнул рукой, показывая тем самым, что разговор окончен.
Надо сказать, что тогда и я, поддавшись мнению большинства, считал Успенского хорошим оперативником. Настоящую же цену ему я узнал только тогда, когда в 1933 году был назначен начальником 6-го отделения экономического управления ОГПУ по Московской области. Успенский возглавлял тогда ЭКУ и по должности был заместителем полпреда ОГПУ по Московской области Реденса*1.
_____
*1. Реденс С. Ф. — комиссар госбезопасности 1-го ранга, нарком внут ренних дел Казахской ССР. Расстрелян в 1940 году.
Успенский подбирал к себе в аппарат людей, не брезговавших очковтирательством и тяготевших к тому, что мы тогда называли липачеством, — таких, как, например, Рафаил Люстингурт*1 и алкоголик и рвач Сергей Иванович Лебедев*2.
_____
*1. Люстингурт Р. А. — майор госбезопасности, зам. начальника УНКВД по Горьковской области. В 1938 году назначен начальником Верхневолжского грузового речного пароходства, но вскоре арестован. Расстрелян в 1939 году.
*2. Лебедев С.И. — майор госбезопасности, начальник УНКВД по Тульской области, расстрелян в 1938 году.
Трения с Успенским у нас начались почти сразу же. Дело в том, что я, составляя по своим объектам записки-отчеты для ОГПУ и МГК партии, носил их на подпись к Люстингурту или Успенскому. Оба они почти каждую мою докладную пытались отредактировать, внося в нее липовые сенсации, против чего я категорически возражал.
Однажды на Метрострое была вскрыта группа обычных расхитителей-жуликов. Успенский и Люстингурт стали настаивать на том, чтобы придать делу политическую окраску и квалифицировать содеянное как вредительство и шпионаж. Я отказался составлять такой документ. У нас произошла крупная ссора. Оба они кричали на меня и требовали, чтобы я подчинился. Я пригрозил, что поставлю в известность об их нажиме на меня начальника ЭКУ ОГПУ Миронова и зампреда ОГПУ Прокофьева. Эта угроза подействовала, но их отношение ко мне после этого эпизода стало резко ухудшаться. Люстингурт на каждом совещании нет-нет да и задевал меня, ставя мне в вину недостаточное рвение в выявлении вредительских элементов на моих объектах. Я, конечно, огрызался, и наши отношения все более обострялись.
Однажды вскоре после получения мною благодарности за руководство работами по замене торцовой мостовой на Дорогомиловском мосту (работы были проведены за сутки) я зашел в кабинет Люстингурта с очередным докладом и застал там начальника первого отделения Каштана, который докладывал о каком-то «страшно вредительском» деле, раскрытом им и Штыковым в системе Мосэнерго. Слушая эту «сказку», я не выдержал и бросил реплику: «Липа чистой воды!»
— Я тебе покажу липу! — взорвался Люстингурт и что есть силы ударил по столу кулаком. — Сам благодарности получаешь, а нам палки в колеса вставляешь! Люди работают, борются с контрреволюцией, а ты позоришь наш аппарат, покрывая вредителей на своих объектах, да еще стучишь Миронову, что мы якобы линуем!
Началось перебранкой со взаимными оскорблениями, а кончилось тем, что Люстингурт истерически завизжал: «Вон из моего кабинета!» — и нецензурно выругался.
Не помня себя от возмущения и обиды, я выхватил револьвер и выстрелил в искаженную бешенством физиономию Люстингурта. Пуля врезалась в стенку в нескольких сантиметрах от его головы. Я бросил револьвер на пол, меня схватили за руки и вывели в секретариат, где я в изнеможении плюхнулся на стул.
Вопреки моим ожиданиям Люстингурт побоялся подать рапорт о случившемся, ведь тогда обязательно была бы создана комиссия для проверки высказанного мною предположения о липовом деле, из-за которого разгорелся сыр-бор, и разоблачение фальсификации могло закончиться для Люстингурта катастрофой. Ведь это происходило в 1933 году, тенденции к липачеству только-только начали проявляться. Жив еще был Менжинский, и, кроме ягодинской группировки, в органах было много чекистов школы Дзержинского.
Реденс, очень не любивший Люстингурта, встал на мою сторону, и в результате вместо ожидаемого мною суда и ссылки я был отправлен в санаторий, а затем переведен (одновременно с группой других чекистов) на должность помощника начальника Московского уголовного розыска (МУР), возглавляемого Л.Д. Вулем*1, который до этого несколько раз безуспешно уговаривал меня перейти на работу в милицию.
_____
*1. Вуль Л.Д. — директор милиции, начальник Управления милиции по Москве и Московской области. Расстрелян в 1937 году.
Если бы не выстрел в Люстингурта, неизвестно, как сложилась бы дальнейшая моя судьба. Останься я в ОПТУ, может быть, и меня, как и многих моих товарищей, в прошлом — хороших людей и честных коммунистов, засосала бы страшная волна шпиономании, а впоследствии, может быть, и я постепенно мог бы сделаться участником фальсификаций, которые начались с малого, а закончились чудовищными по своей жестокости и бессмысленности злодеяниями...
Не знаю точно, когда именно, но уже в 1933 году, когда я еще работал в Москве, стало практиковаться проведение особо важных совещаний руководящих работников ОГПУ (а с 1934 года — НКВД) в Кремле под личным руководством Сталина, который тем самым подчеркивал свою личную роль в руководстве органами. Всем руководящим работникам органов Ягодой и его ближайшим окружением постоянно внушалось, что органами ОГПУ-НКВД лично руководит великий вождь и учитель Сталин. Постепенно руководящие работники НКВД стали все более пренебрежительно относиться к местным партийным и советским организациям на местах, считая себя выше их. Конечно, все это произошло не сразу, процесс этот занял несколько лет и завершился в середине 1937 года, когда начальники управлений НКВД на местах не только перестали считаться с мнением крайкомов, обкомов и горкомов партии, но и открыто диктовали им свою волю.
После каждого совещания руководящих работников ОГПУ-НКВД в Кремле устраивались так называемые «приемы» с шикарным обедом или ужином. Организация банкетов всегда поручалась Иосифу Марковичу Островскому, как начальнику административно-организационного управления ОГПУ-НКВД, в ведении которого находились санитарный отдел со всеми больницами, санаториями и домами отдыха, хозяйственный отдел с совхозами, жилым фондом и мастерскими, финансовый отдел, строительный отдел, который ведал строительством гостиницы «Москва», дома Совнаркома, нового здания ОГПУ, стадиона, водной станции и проч. и проч. Если же иметь в виду, что в ведении Островского находились также все подмосковные и курортные дачи (их строительство, оборудование и распределение среди членов Политбюро и руководящего состава ОГПУ), можно понять, какими неограниченными возможностями он располагал и почему даже равные ему по положению начальники управлений ОГПУ заискивали перед ним, а нижестоящие — прямо-таки трепетали.
Мы с женой были частыми гостями на подмосковных дачах Островского. Он больше всего ценил во мне отсутствие священного трепета перед начальством и безбоязненное высказывание правды в глаза, чего самому Островскому явно не хватало. Он был беспредельно предан партии и был послушным орудием в руках Ягоды, не говоря уже о Сталине, которого боготворил.
У Сталина, как известно, была манера на банкетах поднимать тост за здоровье того или иного присутствующего, которого он по тем или иным причинам хотел как-то отметить, чем и завоевать еще большую преданность. Как-то удостоился такой чести и Островский, по словам которого, Сталин однажды произнес на одном из банкетов примерно следующее: «Товарищи! По легенде самым справедливым и безгрешным человеком на земле был Иисус Христос. И представьте — даже на этого самого справедливого человека многие жаловались. Поэтому нет ничего удивительного в том, что поступает много жалоб на присутствующего здесь товарища Островского. Предлагаю выпить за здоровье этого замечательного организатора и хозяйственника, который своим самоотверженным трудом обеспечивает всем необходимым не только начсостав ОГПУ, но и нас, грешных, работников Центрального Комитета!»
Много раз пересказывая эти слова, Островский просто захлебывался от восторга. Тогда же, кстати, он рассказал мне еще об одном эпизоде на банкете в Кремле.
Среди приглашенных был старый чекист Василий Абрамович Каруцкий. Каруцкий любил выпить и с годами все более увлекался этим занятием. Естественно, на банкете, где было много спиртного, он был изрядно «на взводе».
— Ну что, Каруцкий, опять нахлестался? — с усмешкой спросил, подходя к нему, Каганович.
— А ты меня поил, что ли? — грубо оборвал его Каруцкий.
Каганович, уже в те годы привыкший ко всеобщему преклонению, был поражен резким ответом, растерялся и отошел. Тогда Островский стал укорять Каруцкого за нетактичное поведение.
— Идите вы все к чертовой матери, жополизы! — огрызнулся Каруцкий. — Он еще будет считать, сколько я выпил!
Надо полагать, что Василию Каруцкому уже в те годы претили все эти излишества, подхалимаж и расцветающий махровым цветом культ личности Сталина (летом 1938 года Каруцкий застрелился, оставив письмо протеста).
В 1937 году Островский был арестован и впоследствии расстрелян. Ни минуты не сомневаюсь в том, что никаким врагом он не был — безгранично преданный партии и лично Сталину, он в любой момент пожертвовал бы жизнью за них. Его расстреляли как ставленника Ягоды, а также за слишком большую осведомленность о личной и интимной жизни Сталина, которая ни в коей мере не соответствовала представлениям народа о его пресловутой скромности. Островский, например, прекрасно знал о роли Паукера и Корнеева в части обеспечения Сталина слабым полом. Следует только поражаться тому, как все мы, старые чекисты, в той или иной мере осведомленные обо всем, что тогда происходило, продолжали боготворить Сталина и считали, что все происходящее — в порядке вещей и не более как дело житейское (естественно, что вскоре Паукер и Корнеев также были расстреляны).
Позднее я слышал от кого-то из старых чекистов, что Островский, находясь в одной из камер Лефортовской тюрьмы, с грустной иронией говорил: «Вот уж никогда не думал, что буду сидеть в тюрьме, строительством которой сам руководил». А затем, похлопывая могучие стены рукой, с удовлетворением добавлял: «А тюрьма все же построена очень хорошо, ничего не скажешь».
В мае 1934 года скончался Вячеслав Рудольфович Менжинский. После его смерти в течение некоторого времени среди чекистов ходили упорные слухи, что председателем ОГПУ будет назначен Анастас Иванович Микоян.
Дело в том, что многие чекисты школы Дзержинского недолюбливали Ягоду, и, естественно, им очень хотелось, чтобы над Ягодой был поставлен контроль. К Микояну же старые чекисты относились с большим уважением. Когда Анастас Иванович был еще молодым наркомом пищевой промышленности, он часто выступал в нашем клубе с блещущими юмором докладами о международном положении и на разные другие темы. Его темпераментная и остроумная речь постоянно прерывалась аплодисментами и взрывами хохота. Микоян был у чекистов любимым оратором и пользовался большой популярностью.
Не знаю, обсуждался ли вопрос о назначении на пост председателя ОГПУ Микояна или это был только слух, порожденный нашим большим желанием, но наши надежды не оправдались и полновластным хозяином ОГПУ стал Ягода.
Как я уже упоминал, Ягода по натуре был чрезвычайно грубым человеком. После смерти Менжинского, уже ничем и никем не связанный, он совершенно распоясался, и если ранее позволял себе грубый и развязный тон в узком кругу ближайших подчиненных, то теперь начал нецензурно выражаться и на больших официальных совещаниях.
Важнейшим политическим событием в 1934 году стало убийство С.М.Кирова. Я тяжело переживал эту утрату. Ведь я лично знал С.М.Кирова с 1921 года, когда он напутствовал группу чекистов (в том числе и меня), направляемых на освобождение Грузии. В 1930 — 31 годах, работая в Ленинграде начальником специальной валютной группы, я также несколько раз встречался с Сергеем Мироновичем, докладывал ему о ходе валютных операций в Ленинграде и области. Затем, назначенный начальником ГПУ Хибиногорска, в сентябре 1931 года выслушивал напутствие Сергея Мироновича, придававшего огромное значение промышленному будущему Хибин и всего Кольского полуострова.
Последний раз я слышал Кирова в Москве на XVII съезде партии, где мне, как помощнику начальника МУРа, довелось быть по гостевому билету. Киров выступал с пламенной речью, включавшей знаменательные слова: «Жить, хочется жить!» И вот как обухом по голове — убийство и официальное сообщение в печати о том, что это дело рук троцкистов-террористов.
Все мы тогда настолько слепо верили Сталину, и так велика была сила пропаганды, радио и печати, систематически трубившей о злодеяниях троцкистов-террористов, что у подавляющего большинства коммунистов, и у меня в том числе, не зародилось ни тени сомнения в том, что Кирова убили троцкисты.
В одном только я был твердо уверен. В том, что начальник Ленинградского УНКВД Филипп Демьянович Медведь, безгранично любивший Сергея Мироновича, не мог иметь никакого отношения к этому подлому злодеянию. (Ф. Д. Медведя я знал с июля 1920 года. Он был в Вильно полномочным представителем ВЧК по Западному фронту, а я был зачислен к нему комиссаром для особых поручений.) Уроженец Белоруссии, Филипп Демьянович долгое время жил в Варшаве, прекрасно владел польским языком и был близок с товарищем Дзержинским. Мне также довелось работать под руководством Медведя в Смоленске в 1922 году, недолгое время в Москве, а потом — с конца 1929 года до осени 1931 года — в Ленинграде, где я возглавлял валютную группу ЭКО Ленинградского УНКВД.
В период работы в Ленинграде я имел возможность неоднократно убедиться в огромном уважении и любви, которые Медведь питал к Кирову. Также известно, что и Киров очень любил и ценил Медведя. (Когда, воспользовавшись выездом Кирова в отпуск на курорт, Сталин и Ягода попытались перевести Медведя в другое место и назначить взамен него Евдокимова, Киров, узнав об этом, в категорической форме потребовал немедленно прекратить передачу дел и оставить Медведя в Ленинграде.)
Я глубоко убежден, что Филипп Демьянович делал все от него зависящее, чтобы ни единый волосок не упал с головы Сергея Мироновича. И если эта трагедия все же произошла, то только благодаря гнусно и умышленно созданной для этого преступления обстановке приехавшим в Ленинград и назначенным (вопреки протестам Медведя) заместителем полпреда ГПУ Запорожцем.
После убийства С.М.Кирова Запорожец был осужден на значительно более длительный срок, чем Медведь и второй его заместитель — Фомин, что дает все основания предполагать, что против него были какие-то веские улики. Ленинградские чекисты того времени рассказывали, что убийца Кирова, Николаев, за несколько дней до убийства был задержан в Смольном с оружием и доставлен в управление НКВД (по одной версии, даже не один раз). Сам факт его задержания говорит о том, что его поведение в Смольном кому-то показалось подозрительным. Тем не менее через несколько часов он был освобожден, и ему вернули оружие, из которого вскоре был убит Киров. Надо полагать, что следствием была установлена причастность к этому случаю Запорожца.
Затем более чем странной была гибель старшего по охране Кирова, которого почему-то везли в Смольный на допрос в открытой грузовой машине. С автомашиной произошла авария, во время которой шофер и сопровождающие остались живы, а погиб только начальник личной охраны Кирова.
Если о задержании Николаева с оружием в Смольном было известно только отдельным чекистам, то о гибели начальника охраны была публикация в печати. Тем не менее подавляющему большинству членов партии, как и мне лично, в то время не приходило в голову удивляться всем этим странным стечениям обстоятельств: мы бездумно принимали на веру то, что убийство Кирова — дело рук «террористов — правотроцкистов и зиновьевцев».
После убийства Кирова я прочел приказ по НКВД СССР о снятии с работы и отдаче под суд за допущенную халатность (в части организации личной охраны Кирова) начальника УНКВД Ленинградской области Ф.Д. Медведя.
Все это не укладывалось у меня в голове. Я не мог допустить мысли, чтобы такой безгранично преданный партии большевик-чекист и замечательной души человек, как Медведь, мог быть в чем-либо виновен.
Приехав в Москву из Иванова в командировку (4 — 5 января 1935 года) и узнав от кого-то из товарищей, что Филипп Демьянович находится у себя в московской квартире чуть ли не под домашним арестом и ждет решения своей судьбы, я, глубоко сочувствуя беде, свалившейся на него, позвонил ему по телефону, извинился за беспокойство и сказал, что знаю о его несчастье и хочу напомнить, что всегда любил и уважал его как своего учителя и начальника и если он в чем-либо нуждается, то может рассчитывать на меня.
Филиппа Демьяновича мой звонок, видимо, взволновал, так как он несколько раз повторил: «Спасибо, парень, большое спасибо. Мне ничего не надо, и помочь мне ничем нельзя. Но если останусь жив, твоего звонка не забуду». При этом голос его слегка дрогнул. Я с жаром стал уверять, что он не только будет жить, но что я еще надеюсь поработать под его руководством. К великому сожалению, нам никогда уже больше не пришлось ни увидеться, ни поговорить.
Вскоре Медведя судила Военная коллегия Верховного суда — в здании НКВД, чуть ли не при закрытых дверях. Медведь и Фомин были осуждены каждый на три года, а Запорожец — на 10 лет.
Не помню, кто мне рассказывал об этом суде: Стырне*1, Островский или Вельский (скорее всего, все трое), но в среде чекистов многократно цитировали фразу, сказанную Медведем: «Что я мог сделать, когда мне навязали в заместители такую сволочь, как Запорожец, и солдафона и болвана Фомина».
_____
*1. Стырне В. А. — старший майор госбезопасности. Расстрелян в 1938 году.
Оставшийся в живых и выпустивший в середине 60-х годов «Записки старого чекиста» Фомин, видимо, до самой смерти не мог простить Медведю этой жестокой, но меткой характеристики и, по рассказам, где мог, старался всячески очернить замечательного большевика-ленинца Медведя.
В ссылку на Колыму Ф. Д. Медведь уезжал с несколькими осужденными так же, как и он, на высылку работниками ГПУ-НКВД, в отдельном вагоне. На вокзале их провожала группа чекистов. На Колыме Медведь работал до 1937 года начальником одного из отделов управления лагерями.
В 1937 году Медведя привезли в Москву, якобы на пересмотр дела, и расстреляли. В начале шестидесятых годов я услышал от родственника Ф. Д. Медведя, Дмитрия Борисовича Сорокина, в семье которого Филипп Демьянович встречал грустный для него 1935 год, что, оставшись после ужина вдвоем со своим родственником, Медведь сказал: «Если останешься жив, запомни: идейный вдохновитель убийства — Сталин, а исполнители — Ягода и Запорожец». (Соответствующее письмо об этом высказывании Медведя в начале 60-х годов было направлено Д.Б.Сорокиным в ЦК партии.) Надо полагать, что Филипп Демьянович, как опытнейший чекист, имел веское основание сделать подобный, страшный по тому времени вывод. Ведь Медведь после убийства С. М. Кирова еще несколько часов оставался начальником УНКВД, имел возможность допросить начальника охраны Кирова, а также ряд других сотрудников УНКВД. Медведь видел Сталина в Ленинграде, куда тот выехал сразу после убийства Кирова, затем был у Сталина в Москве, когда тот вызвал его к себе и спросил: как следует поступить с ним? То есть с Медведем, который, дескать, не доглядел и допустил убийство Кирова. Вместо ответа Медведь показал на висевшей в кабинете карте на Колыму, как бы приговаривая себя к ссылке, и Сталина вполне устроил этот самоприговор Медведя. Филипп Демьянович слышал голос Сталина, видел выражение его глаз и, кроме того, возможно, знал многое из того, о чем мы могли только догадываться. В частности, он слышал подробный рассказ Кирова о его визите к Сталину после окончания XVII съезда партии.
Лично мне пришлось слышать об этом от старого большевика Василия Мефодьевича Верховых (члена КПСС с 1912 года) в конце 60-х годов. Верховых рассказывал, что делегатов XVII съезда неприятно поразило нововведение в части голосования: вместо обычных 2 урн почему-то было поставлено 17, причем с прикреплением к каждой из них делегатов с порядковым номером мандата (от и до). В связи с этим прикреплением к определенным урнам получалось, что при подсчете голосов можно было почти точно определить (если были голоса против), делегаты из каких городов могли их подать, так как регистрировались по прибытию на съезд и получали порядковые номера мандатов обычно целыми группами. Группа делегатов или кто-то один по их поручению ходили к Сталину выразить свое недоумение по поводу 17 урн, на что Сталин ответил, что он этим не занимается и чтобы они обратились в секретариат.
Всем старым членам партии было хорошо известно, что на XVII съезде Киров был единогласно избран тайным голосованием в члены ЦК. Сталин же прошел далеко не единогласно. Среди чекистов тогда ходили слухи, что против Сталина голосовали не 11 человек, как было объявлено официально, а гораздо больше, но сколько точно — никто не знал; называли приблизительную цифру — около 200.
Итак, на XVII съезде Киров был избран в ЦК единогласно, а против Сталина было значительное количество голосов. Следовательно, большее доверие съездом было оказано Кирову.
Естественно, что после XVII съезда Киров становился опаснейшим конкурентом для Сталина. Не следует также забывать, что Ягода и Медведь были, по существу, врагами, так как Филипп Демьянович не мог примириться с чуждыми духу Дзержинского ягодовскими авантюристическими методами работы. И Ягода прекрасно понимал, что если Генеральным секретарем партии станет Киров, ему придется уйти с поста председателя ОГПУ. Таким образом, и Сталин, и Ягода были заинтересованы в устранении Кирова.
Кроме рассказа о 17 урнах я слышал от В. М. Верховых (а в разное время об этом рассказывали и другие товарищи), что на XVII съезде группа делегатов обратилась к Сергею Мироновичу Кирову с предложением дать согласие на избрание его Генеральным секретарем. Киров категорически отверг это предложение делегатов, сказав, что «в тот момент, когда страна только что начала успокаиваться и работать в полную силу, нельзя затевать смену партруководства». Одновременно он взял на себя миссию переговорить со Сталиным и высказать ему недовольство многих делегатов и, в частности, свое о его неправильном поведении: игнорировании коллегиальности в решении важнейших вопросов вопреки ленинским принципам и т.п.
Вечером в день закрытия XVII съезда этот разговор Кирова со Сталиным как будто состоялся, но подробности не известны. Прямо от Сталина Сергей Миронович поехал на Садово-Триумфальную улицу, в квартиру Филиппа Демьяновича Медведя, где его ждала группа делегатов, поручивших ему переговорить со Сталиным и передать ему их претензии.
К сожалению, все товарищи, которым Киров рассказывал о своем разговоре со Сталиным, в 1937 — 38 годах были расстреляны. И только кое-какие слухи об этом разговоре просочились от них к их друзьям, да и Сергей Миронович в Ленинграде, возможно, тоже кое с кем из наиболее близких товарищей поделился. В частности, Верховых (с его слов) слышал об этом от делегата XVII съезда Кабакова.
Но все это всплыло в шестидесятые годы, а тогда, в 1934 — 35 годах, находясь в самой гуще партийных масс и руководителей партийных и советских учреждений, я не встретил ни одного сомневающегося в правдивости газетных утверждений и ни одного, кто высказал какое-либо подозрение о причастности к убийству С. М. Кирова Сталина или Ягоды. Мы твердо верили, что подлые происки «троцкистов-террористов» мешают нашей расцветающей стране еще быстрее двигаться вперед к социализму и коммунизму, и были полны решимости бороться со всеми, кто нам мешает.
Надо также не забывать, что в ЦК в те годы были лучшие и преданнейшие соратники В.И.Ленина, такие, как Серго Орджоникидзе, П. П. Постышев, Рудзутак, Эйхе, Косиор и многие-многие другие, которые, как мы были убеждены, не могли допустить обмана в печати.
Взамен снятого Ф. Д. Медведя начальником Лениградского УНКВД был назначен Леонид Заковский, известный старым чекистам как карьерист и разложившийся человек. Как только Заковский прибыл в Ленинград, начались необоснованные аресты коммунистов и руководящих беспартийных работников, обвинявшихся в принадлежности к троцкистско-зиновьевской оппозиции. Чекисты, работавшие в тот период в Ленинграде, рассказывали, что по приказу Заковского в числе других были арестованы, высланы или расстреляны многие советские граждане только за то, что имели несчастье быть однофамильцами убийцы Кирова Николаева.
Одновременно в центральной печати все чаще стали появляться всевозможные разоблачительные статьи о «коварных методах врагов народа, правых троцкистов — зиновьевцев и бухаринцев». Одним из первых и наиболее популярных авторов статей, а позднее — специальных брошюрок с крикливыми названиями «Правые троцкисты — агенты иностранных разведок», «Кровавые методы врагов народа» и т.п. был Леонид Заковский. Помню, что всем докладчикам в тот период усиленно рекомендовалось цитировать галиматью Заковского. За свои «подвиги» Заковский был награжден орденом Ленина, а затем, в 1937 году, был переведен в Москву на должность начальника УНКВД Московской области.
По примеру Заковского некоторые чрезмерно ретивые начальники УНКВД также стали выпускать статьи и брошюры с описанием сенсационных «кровавых дел иностранных разведчиков — троцкистов, зиновьевцев и бухаринцев». В этих «произведениях», напоминающих американские комиксы, рассказывалось об организации троцкистами-террористами дерзких вредительских актов, диверсий, убийств, взрывов на шахтах, крушений поездов и т.п. Вся эта подготовка общественного мнения в печати проводилась систематически и планомерно, постепенно возрастая, и достигла своего апогея к середине 1936 года.
В то время я работал в Иванове.
ЧАСТЬ I
Иваново
Сразу же после убийства С.М. Кирова в Иваново пришла специальная директива за подписью Сталина: «О необходимости усилить борьбу с правотроцкистами, являющимися шпионами и агентами иностранных разведок, совершившими злодейское убийство товарища Кирова». На директиве стояла пометка: «Всем обкомам, крайкомам и республикам». Такая же директива поступила от Ягоды, адресованная во все республиканские, краевые и областные управления НКВД.
Следует отметить, что, несмотря на всю Газетную истерию и поток соответствующих директив, поначалу далеко не все начальники УНКВД на местах пошли по усиленно рекомендуемой им дорожке «раздувания», а позднее — прямой фальсификации дел на так называемых «троцкистов-террористов». Среди руководящих работников НКВД (до прихода к власти Ежова) было еще много старых чекистов, которые если и не саботировали усиление борьбы с липовыми троцкистами-террористами, то, во всяком случае, не проявляли в этом деле никакого энтузиазма.
Так вел себя и начальник Ивановского УНКВД старый заслуженный чекист Владимир Андреевич Стырне, игравший видную роль в знаменитых операциях ВЧК-ОГПУ в первой половине 20-х годов («Трест», поимка Савинкова и пр.). Стырне аккуратнейшим образом доводил поступающие из центра директивы до своих подчиненных, но сам (насколько мне известно, как помощнику начальника УНКВД по милиции, а также как человеку, находящемуся в близких отношениях со Стырне на правах старого знакомства по Москве) не проявлял никакой инициативы в этом направлении. Не создавал сенсационных дел на троцкистов-террористов и с разоблачениями в печати «кровавых методов врагов народа» не выступал.
Зато первый секретарь Ивановского обкома партии Иван Петрович Носов с огромным энтузиазмом на всех собраниях и совещаниях призывал всех и вся на борьбу с подлыми троцкистами-террористами. Он подчеркивал, что, будучи на совещании в Москве, получил личные указания от товарища Сталина, а затем от Молотова — «выкорчевывать и беспощадно уничтожать» всех правотроцкистов. Носов возмущался и сокрушался, что в Ивановско-промышленной области (ИПО) не обнаруживаются «враги народа», троцкисты, тогда как во многих других областях их находят и искореняют. Об этом же твердили председатель Ивановского облисполкома Агеев, секретарь горкома Соколинский и ряд других руководящих партработников.
После убийства С.М. Кирова в стране быстро нарастала атмосфера всеобщего недоверия и подозрительности ко всем, имевшим в прошлом хотя бы самое отдаленное отношение к троцкизму или к другим группировкам. И если кто-либо из таких людей выступал на партсобраниях с критикой недостатков в области, Носов, Агеев и их компания немедленно клеймили его ярлыком «троцкиста». В последующие 1935 — 36 годы эти порочные методы с каждым месяцем действовали все безотказнее. Многим товарищам, имевшим в прошлом самое незначительное или косвенное отношение к троцкизму (или просто почему-либо неугодным), сначала приклеивали клеймо «троцкиста», затем исключали из партии, а позднее их арестовывали и уничтожали.
Тем не менее некоторые члены партии продолжали еще выступать, как и ранее, с критикой поведения Носова и других не в меру зарвавшихся вельмож. Тогда еще в нашей области было более или менее спокойно, и шумиха с искоренением троцкизма до нас не дошла.
Впервые мы столкнулись с этим явлением осенью 1935 года, когда в Иваново пришла сверхсрочная шифровка из Москвы, предлагавшая органам НКВД, милиции и пограничным войскам принять самые энергичные и активные меры к розыску «опасного преступника» Димитрия Гая*1, бежавшего из окна вагона по пути следования, кажется, в Ярославскую тюрьму.
_____
*1. Так у автора На самом деле имеется в виду действительно бежавший при этапировании герой гражданской войны Гая Дмитриевич Гай (Бжишкян).
Это известие меня поразило. Бывший легендарный герой гражданской войны, которого я лично знал еще по Вильно в 1920 году, в последние годы — профессор военной академии имени Фрунзе, как мог он стать на путь измены? К моему стыду, я думал тогда не о какой-то страшной ошибке или несправедливости, а о том, что такой человек, перейдя на сторону троцкистов, видимо, с такой же страстью, с какой он воевал в гражданскую, будет бороться против генеральной линия партии.
Начальником штаба по розыскам был назначен Стырне, но он перепоручил это дело мне, и я в течение двух или трех суток принимал донесения о ведущихся розысках и сообщал о ходе дел в Москву. Начальником центрального штаба по поимке Гая в Москве был замнаркомвнудел Г.Е. Прокофьев, его замом — член коллегии НКВД Л.Г. Миронов. Оба они чуть ли не ежечасно звонили мне, требуя усилить розыски. Прокофьев несколько раз подчеркивал, что за розыском Гая наблюдает лично Сталин, которому штаб должен ежечасно представлять сводки, поэтому мне необходимо докладывать им каждые 45 минут.
Получая от меня очередные донесения, Миронов говорил слегка ироническим тоном, которому я тогда не придавал значения, относя его за счет наших с ним дружеских взаимоотношений и обычной манеры в прошлом вести разговоры в шутливом тоне. Теперь же я думаю, что Миронов просто был умным человеком и те нездоровые тенденции, которые мы, находящиеся вдали от центра, поняли значительно позднее, он, как член коллегии НКВД, уже видел воочию. Ему, видимо, уже тогда было ясно, что Гай никакой не опасный преступник и не враг народа, и Миронов с грустной иронией наблюдал за всем, что творилось вокруг Гая, не имея силы идти наперекор указаниям, так как это было равносильно самоубийству. Во всяком случае, Миронов был тогда для меня единственным человеком, скептически относящимся к ажиотажу вокруг розысков.
Обнаружили Гая в стогу сена со сломанной ногой не наши работники, а проходившие мимо сельский учитель и колхозник. Один из них побежал сообщать и по дороге встретил группу сотрудников органов из Москвы, возглавляемую М.П. Фриновским (впоследствии первым заместителем Ежова). Как потом рассказывали очевидцы, Фриновский подошел к лежащему Гаю, протянул ему руку и сказал:
— Здорово, Гай!
Всякой сволочи руки не подаю, — ответил Гай. — Берите и продолжайте свое черное дело.
(Позднее я слышал, что Гай, как и многие другие замечательные ленинцы-большевики, был расстрелян*1.) Но все же история с Гаем в определенном смысле была для нас эпизодом случайным.
_____
*1. Г. Д. Гай был казнен по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР в ноябре 1937 года.
Отдыхая летом 1936 года в Кисловодске, я, как и многие другие чекисты, был удивлен сенсационным известием о назначении на должность народного комиссара внутренних дел СССР работника ЦК ВКП(б) Николая Ивановича Ежова и переводом Ягоды на должность народного комиссара связи. На первых страницах центральных газет были помещены огромные портреты Ежова и Ягоды и большие статьи, посвященные обоим.
Большинство старых чекистов были убеждены в том, что с приходом в НКВД Ежова мы наконец вернемся к традициям Дзержинского, изживем нездоровую атмосферу и карьеристские, разложенческие и липаческие тенденции, насаждаемые в последние годы в органах Ягодой. Ведь Ежов, как секретарь ЦК, был близок к Сталину, в которого мы тогда верили, и мы полагали, что в органах будет теперь твердая и верная рука ЦК. В то же время большинство из нас считали, что Ягода, как хороший администратор и организатор, наведет порядок в Наркомате связи и принесет там большую пользу.
Этим вашим надеждам не суждено было сбыться. Вскоре началась такая волна репрессий, которой подверглись уже не только троцкисты и зиновьевцы, но и работники НКВД, плохо борющиеся с ними.
Одним из первых крупных работников органов был арестован наркомвнудел Белоруссии Г. А. Молчанов*1, с которым я познакомился в 1928 году. По рассказам работников НКВД центра, Молчанову сначала было предъявлено в качестве обвинения отсутствие должной борьбы с троцкистами. На самом же деле оказалось, что основной целью было выпытать у него компрометирующие материалы на Ягоду, в подчинении которого он долгое время работал.
_____
*1. Молчанов Г.А. — комиссар госбезопасности 2-го ранга, нарком внутренних дел Белорусской ССР. Расстрелян в 1937 году.
Рассказывали, что допросы Молчанова по поручению Ежова вел особоуполномоченный НКВД СССР Владимир Фельдман, который лично избивал Молчанова, пытаясь выбить у него показания о правотроцкистской деятельности Ягоды, работавшего пока еще наркомом связи. Когда-то Владимира Фельдмана старые чекисты уважали как справедливого и честного человека, который еще при Дзержинском был начальником юротдела ВЧК, а затем долгие годы занимал должность особоуполномоченного по делам сотрудников и строго наказывал за малейшее нарушение соцзаконности. Но в тридцатые годы, когда под руководством Ягоды началось разложение руководящих работников органов и появились тенденции к раздуванию дел и липачеству, Фельдман все время вращался в кругу ближайших соратников Ягоды и, видимо, постепенно «перевоспитывался» в нужном направлении.
После того как Молчанов был объявлен «врагом народа», в Москве почти одновременно застрелились трое или четверо сотрудников, привезенных Молчановым в Москву в свое время из Иваново-Вознесенска. Эта группа самоубийц, естественно, немедленно была провозглашена «врагами народа», испугавшимися разоблачений.
Примерно в это же время в Ивановское УНКВД пришла шифровка с распоряжением о немедленном аресте помощника начальника Ивановского УНКВД капитана госбезопасности Клейнберга, недавно прибывшего к нам из Белоруссии, где он работал с Молчановым. Как раз в тот вечер мы вместе с В.А.Стырне находились в театре, и фельдъегерь доставил расшифрованное распоряжение прямо в ложу театра.
— Вы подумайте, какой ужас, Миха-а-ил Па-авлович! — растягивая слова и хватаясь обеими руками за голову, восклицал Стырне, сообщив мне об этом распоряжении.
А заведенный механизм неумолимо раскручивался, нанося все новые и новые удары. Поскольку Молчанов в прошлом несколько лет работал в Иванове, и в аппарате НКВД и в милиции еще осталось много сотрудников, знающих его лично, чекисты старой закалки остро переживали его арест, хотя, конечно, вслух об этом не говорили. Но, когда позднее был расстрелян избивавший Молчанова Фельдман, многие этому порадовались, так как восприняли это как справедливое возмездие. Все мы тогда еще с недоверием относились к рассказам и слухам об избиениях и наивно считали, что Фельдман перегнул палку по собственной инициативе, за что и понес заслуженную кару.
Вскоре после возвращения из отпуска в Иваново я поехал в командировку в Москву и встретил нашего бывшего комсомольца дивизии Осназа Виктора Ильина, работавшего тогда в секретно-политическом отделе (СПО) и занимавшегося следственными делами. На мой вопрос, что из себя представляет новый нарком, Виктор начал расхваливать его демократичность и простоту, рассказывая, что он ходит по кабинетам всех следователей, лично знакомясь с тем, как идет работа.
И у тебя был? — спросил я.
Конечно, был. Зашел, а у меня сидит подследственный. Спросил, признается ли, а когда я сказал, что нет, Николай Иванович как развернется и бац его по физиономии... И разъяснил: «Вот как их надо допрашивать!» — Последние слова он произнес с восторженным энтузиазмом.
Обескураженный, с тяжелым чувством расстался я с ним. Ведь в течение стольких лет при Феликсе Эдмундовиче от всех чекистов строго требовали даже голоса на арестованного не повышать, не то чтобы ударить, а теперь «сталинский нарком» сам учит, как бить арестованных. Помимо того, что это в принципе аморально, я не мог не
протестовать мысленно и по чисто профессиональным причинам. Ведь, если сведения «выбиты», как узнать, не самооговор ли это? Как узнать главное: враг перед тобой или ослабевший от побоев и издевательств невинный человек?
Как только из Молчанова были выбиты показания о том, что Ягода возглавлял некий правотроцкистский центр и подготавливал террористические акты против Сталина и Ежова, Ягода был арестован и объявлен «врагом народа». В правительственном сообщении прямо-таки в стиле Иоанна Грозного было написано, что «Ягода «отрешен» от должности наркома связи».
Жена Ягоды, Ида Авербах, работавшая в то время помощником прокурора СССР, не вынеся свалившегося на нее позора, застрелилась*1. В тот же день в Горьком застрелился начальник Горьковского УНКВД Матвей Погребинский. Рассказывали, что он проводил оперативное совещание, во время которого было получено и оглашено сообщение об аресте Ягоды. Узнав об этом, Погребинский вышел в туалет и там застрелился. Он предвидел, что его арест, как одного из любимцев Ягоды, неминуем, а с методами тогдашнего следствия он, видимо, был уже хорошо знаком, так как в течение нескольких месяцев выполнял директивы Ежова и, надо полагать, проводил следствие по делам арестованных руководящих партийных и советских работников Горьковской области со свойственным ему энтузиазмом.
_____
*1. Ошибка автора: И. Л. Авербах была осуждена и расстреляна в 1938 году.
Примерно в то же время покончил жизнь самоубийством друг Иды — Леня Черток*1, выбросившись из окна (или с балкона) своей квартиры, когда ночью к нему пришли работники НКВД, чтобы арестовать его.
_____
*1. Черток Л. И. — майор госбезопасности, заместитель начальника оперативного отдела ГУГБ.
Тогда же был арестован и вскоре расстрелян как «враг народа» начальник административно-организационного управления НКВД СССР И.М.Островский.
В Иванове после ареста Ягоды первый секретарь обкома Носов созвал оперативное совещание руководящих работников УНКВД и поставил вопрос о том, чтобы чекисты, работавшие под руководством Ягоды, раскаялись и признали свою вину. На мой вопрос, какую именно вину и в чем мы должны признаваться, Носов крикнул:
— А разве ты сам не выполнял приказы Ягоды?
Я ответил, что, естественно, выполнял приказы наркома внутренних дел так же, как и теперь выполняю приказы товарища Ежова. Тогда Носов с жаром стал упрекать меня, как я смею сравнивать шпиона-троцкиста Ягоду со сталинским наркомом и секретарем ЦК Ежовым, и сказал, что такие сравнения к добру не приведут.
На этом совещании Носов опять подчеркивал, что у него имеются указания по партийной линии от Сталина и по советской от Молотова — усилить беспощадную борьбу с троцкистами, которые якобы имеются во всех учреждениях, и что в первую очередь надо обратить внимание на органы НКВД, где есть много ягодовцев.
С приходом в НКВД Ежова его первым заместителем был назначен Михаил Петрович Фриновский, который с энтузиазмом стал проводить в жизнь ежовскую линию истребления «врагов народа».
Характерен факт, о котором знали все чекисты того времени. Когда Ежов получил указание свыше об аресте Ягоды и надо было направить кого-нибудь для выполнения этого приказа, первым вызвался бывший ягодовский холуй — Фриновский, с готовностью выкрикнувший: «Я пойду!». Фриновский не только возглавил группу работников, ходивших арестовывать Ягоду и производить обыск в его квартире, но рассказывали, что он первым бросился избивать своего бывшего покровителя. В кровавый период ежовского всевластия полностью раскрылась сущность этого крупнейшего подлеца. Правда, его энтузиазм в выполнении инквизиторских заданий не помог ему самому избежать заслуженной кары. (Когда в конце 1938 года Ежова сменил Берия, последний начал «убирать» руководящие кадры Ежова, и одним из первых был арестован и вскоре расстрелян Фриновский, незадолго перед арестом переведенный из НКВД на должность наркомвоенморфлота СССР.)
Не помню точно, в какое именно время (до ареста Ягоды или после) Стырне как-то сообщил мне, что из Москвы поступили сведения, что в Иванове орудует крупная троцкистская организация, которую возглавляет председатель облисполкома Агеев. Затем Стырне рассказал, что в середине или в конце 20-х годов Агеев работал наркомом торговли РСФСР и небольшой период времени примыкал к троцкистской оппозиции, но вскоре отошел от нее. Стырне высказал мнение, что этот отход является не чем иным, как маскировкой.
Не питая к Агееву никаких симпатий за его барское поведение, я все же не мог не высказать Стырне своих сомнений в принадлежности Агеева к троцкистской оппозиции. Однако Стырне стал уверять меня в том, что я ошибаюсь.
Спустя несколько дней после этого разговора Агеев поехал в командировку в Москву и был там арестован.
А события нарастали с ошеломляющей скоростью. Однажды все мы были потрясены опубликованным сообщением об аресте Тухачевского и других крупных военных деятелей Красной Армии. Взволнованный, я прибежал к Владимиру Андреевичу Стырне и высказал свое негодование по поводу того, как могло случиться, что мы доверяли командование Красной Армии предателям, и если Тухачевский действительно шпион, то всех нас надо расстрелять, так как мы проглядели его.
Затем, несколько поостыв и поразмыслив, я поделился со Стырне своими сомнениями, сказав, что, хотя у меня нет основания не верить печати, все же трудно себе представить Тухачевского как шпиона и троцкиста. Я уже говорил о том, что очень ценил Ф. Д. Медведя, а Медведь — я это знал — любил и ценил Тухачевского.
Стырне сказал, что нисколько не сомневается в виновности Тухачевского и других военных, поскольку ему доподлинно известно, что они на допросе в присутствии товарищей Молотова, Кагановича, Маленкова и других членов ЦК признали свою вину.
— Не сомневайтесь, Михаил Павлович, — закончил наш разговор Стырне, — дело чистое!
Не знаю, были ли какие-либо сомнения у самого Владимира Андреевича, во всяком случае, говорил он как будто совершенно искренне. Разве только, как опытный разведчик в прошлом, был очень хорошим артистом.
Вскоре вслед за арестом командующего Киевским особым военным округом Ионы Якира застрелился начальник Главного политуправления Красной Армии Ян Гамарник.
(Ходили слухи, что жены Гамарника и Якира были сестрами.)
В это время в Иванове проходила партконференция, и я, как член секретариата, был в президиуме. После перерыва Носов, возвратившись в президиум и, видимо, только что узнав о самоубийстве Гамарника, со злобой сказал:
— Вот сволочь Гамарник, отпетый шпион и троцкист. Побоялся ответственности, застрелился. Не был бы виноват, не застрелился бы.
Многим из нас, в том числе и мне, это, увы, казалось правдоподобным.
Вскоре после ареста Ягоды и некоторых его бывших подчиненных, якобы «тормозивших борьбу с троцкистами», Ежов созвал в Москву на совещание всех полномочных представителей НКВД республик, краев и областей. От Ивановской области ездил на это совещание Стырне.
По возвращении Владимир Андреевич рассказывал своему заместителю Н.И. Добродицкому и мне о том, как Ежов проводил совещание. Свою речь на совещании он начал примерно следующими словами:
Вы не смотрите, что я маленького роста. Руки у меня крепкие — сталинские. — При этом он протянул вперед обе руки, как бы демонстрируя их сидящим. — У меня хватит сил и энергии, чтобы покончить со всеми троцкистами, зиновьевцами, бухаринцами и прочими террористами, — угрожающе сжал он кулаки. Затем, подозрительно вглядываясь в лица присутствующих, продол жал: — И в первую очередь мы должны очистить наши органы от вражеских элементов, которые, по имеющимся у меня сведениям, смазывают борьбу с врагами народа на местах.
Сделав выразительную паузу, он с угрозой закончил:
— Предупреждаю, что буду сажать и расстреливать всех, не взирая на чины и ранги, кто посмеет тормозить дело борьбы с врагами народа.
После этого Ежов стал называть приблизительные цифры предполагаемого наличия «врагов народа» по краям и областям, которые подлежат аресту и уничтожению. (Это была первая наметка спускаемых впоследствии — с середины 1937 года — официальных лимитов в определенных цифрах на каждую область.)
Услышав эти цифры, рассказывал Стырне, все присутствующие так и обмерли. На совещании присутствовали в большинстве старые опытные чекисты, располагавшие прекрасной агентурой и отлично знавшие действительное положение вещей. Они не могли верить в реальность и какую-либо обоснованность названных цифр.
— Вы никогда не должны забывать, — напомнил в конце своего выступления Ежов, — что я не только нар комвнудел, но и секретарь ЦК. Товарищ Сталин оказал мне доверие и предоставил все необходимые полномочия. Так что отсюда и сделайте для себя соответствующие вы воды.
Когда Ежов закончил свое выступление, в зале воцарилась мертвая тишина. Все застыли на своих местах, не зная, как реагировать на подобные предложения и угрозы Ежова.
Вдруг со своего места встал полномочный представитель УНКВД Омской области, старейший контрразведчик, ученик Дзержинского и мужественный большевик Салынь*1.
_____
*1. Салынь Э. П. — старший майор госбезопасности, начальник УНКВД по Омской области. Расстрелян в 1938 году.
Заявляю со всей ответственностью, — спокойно и решительно сказал Салынь, — что в Омской области не имеется подобного количества врагов народа и троцкистов. И вообще считаю совершенно недопустимым заранее намечать количество людей, подлежащих аресту и расстрелу.
Вот первый враг, который сам себя выявил! — резко оборвав Салыня, крикнул Ежов. И тут же вызвал коменданта, приказав арестовать Салыня.
Остальные участники совещания были совершенно подавлены всем происшедшим, и более никто не посмел возразить Ежову.
Рассказывая нам об этом, Стырне никак не комментировал приведенных фактов и старался сделать вид, что совещание прошло на должном уровне и вообще все идет так, как и следовало ожидать. Но и я, и Добродицкий отлично понимали, что он переживает арест своего соотечественника (Салынь по национальности был латыш), соратника по работе в КРО и близкого друга как трагедию.
Стырне после этого совещания был страшно растерян и подавлен.
Подробности о выступлении Ежова на одном из его первых совещаний с руководящим составом о лимитах и об аресте Салыня, посмевшего возразить Ежову, молниеносно стали известны всем сотрудникам НКВД и оперативному начсоставу милиции. Обстоятельства ареста Салыня и его причины дали пищу для размышлений многим старым чекистам. Всем стало ясно, что высказывать сомнения в правильности действий Ежова и его новых выдвиженцев равносильно самоубийству.
Все же некоторые, не желая идти по преступному пути, на который толкал их по указанию свыше Ежов, покончили с собой. Я имею в виду в первую очередь бывшего начальника УНКВД Северного Кавказа Курского, взятого Ежовым к себе в заместители по рекомендации Фриновского. Рассказывали, что Курский оставил письмо в адрес ЦК, в котором писал, что не может согласиться с применением на следствиях избиений и пыток и поэтому кончает с собой.
Год спустя, летом 1938 года, покончил жизнь самоубийством, так же оставив письмо в адрес ЦК (о недопустимых методах работы НКВД и фальсификациях), начальник УНКВД Московской области Василий Каруцкий.
Но далеко не каждый мог отважиться так поступить, тем более что самоуничтожение в данном случае вряд ли можно считать наилучшим выходом из создавшегося положения. Скорее правы были те, кто считал более целесообразным молчать и в меру сил отстаивать справедливость, где возможно и как возможно, сохраняя жизнь до лучших дней.
Весной 1937 года, возвратившись из Москвы в Иваново после актива НКВД СССР, Стырне созвал большое оперативное совещание, на котором присутствовали все начальники отделов и отделений УНКВД и их заместители, и доложил об итогах актива НКВД, где обсуждались решения пленума ЦК. В конце выступления Стырне сказал:
— Могу вас поздравить, товарищи. К нам на должность начальника СПО едет рекомендованный лично Николаем Ивановичем Ежовым молодой выдающийся чекист Юревич*1.
_____
*1. Юревич В. И. — капитан госбезопасности, начальник УНКВД по Кировской области. Расстрелян в 1940 году.
Позднее у себя в кабинете Владимир Андреевич рассказывал группе ближайших подчиненных, среди которых были я и Чангули, подробности о назначении в Иваново Юревича.
— Когда я находился в кабинете у Николая Ивановича, я обратился к нему с просьбой о направлении к нам ра ботника на должность начальника СПО, так как на месте нет подходящего человека. Николай Иванович тут же по звонил по телефону начальнику УНКВД Московской области: "Товарищ Реденс, как фамилия того молодого паренька, который так хорошо выступил на активе? Говоришь, Юревич? Так, через десять минут чтобы ты с ним был у меня в кабинете". Через несколько минут, в продолжение которых я докладывал товарищу Ежову о других ивановских делах, в кабинет к нему вошли Реденс и мо лодой блондин, высокого роста, младший лейтенант госбезопасности. «Юревич! Поедешь в Иваново начальником СПО, — без всяких предисловий тоном приказа сказал Ежов. — А вот сидит твой начальник управления, знакомься». Юревич поблагодарил за доверие и назначение, после чего Ежов объявил, что ему досрочно будет присвоено звание лейтенанта госбезопасности.
Стырне, по его словам, сначала поблагодарил Ежова, а затем выразил благодарность за «помощь ценными кадрами» и Реденсу. И вот вскоре этот «ценный кадр» прибыл в Иваново, в честь чего Стырне созвал экстренное оперативное совещание.
Когда все мы собрались в кабинете Стырне, я увидел сидящего рядом с ним молодого человека в форме НКВД в звании лейтенанта.
— Желая помочь нашей области, — торжественно на чал Стырне, — Николай Иванович Ежов прислал к нам молодого выдающегося чекиста, товарища Юревича Вик тора Ивановича, которого прошу любить и жаловать.
Когда он произнес имя «Виктор», я внимательно посмотрел на «посланца Ежова» и с удивлением узнал в нем инструктора физкультуры, с которым познакомился под Новый, 1936 год в доме отдыха НКВД «Прозоровка», где находился тогда с женой и друзьями. (Кстати, фамилии «Юревич» я тогда не знал, все звали этого физрука просто Виктором.)
После окончания совещания, когда мы остались со Стырне вдвоем, я сказал ему.
Какой же это «выдающийся чекист», Владимир Андреевич! Это же сопляк — в прошлом году был инструктором физкультуры в «Прозоровке».
— Вы с ума сошли, Миха-ал Па-авлович! — с ужасом замахал на меня руками Стырне. — Это же особо доверенное лицо Николая Ивановича!
Произнося имя и отчество Ежова, Стырне по своей обычной привычке слегка приподнялся с места.
В эту минуту я, признаться, пришел в полное замешательство. «Или я сошел с ума, или все вокруг меня сумасшедшие», — подумал я.
Сразу же после приезда Юревича в Иваново начались аресты коммунистов и беспартийных, причем все они подозревались как троцкисты-террористы и прочие «враги народа». Правда, поначалу это были практически рядовые работники. Руководящих областных работников еще не арестовывали (за исключением председателя облисполкома Агеева, арестованного в Москве). На ежедневных оперативных совещаниях «выдающийся чекист» Юревич четко, по-военному докладывал о своих «ошеломляющих успехах» на поприще выявления «врагов народа», и все мы с изумлением узнали, что некоторые знакомые нам партийные и советские работники на допросах у Юревича признавали себя шпионами, террористами и врагами, и почему-то почти все они, как оказывалось, «хотели убить Сталина, Ежова или Молотова».
Я несколько раз не смог удержаться от критических реплик в адрес Юревича. Когда тот в своих докладах о ходе следствия говорил что-либо весьма отдаленно напоминавшее истину, я с места громко комментировал: «Липа». Или: «Ерунда». Или что-либо в этом роде. Но Стырне с возмущением начинал требовать, чтобы я с уважением относился к Виктору Ивановичу как к особо доверенному лицу Ежова.
Сам же Юревич, как мне казалось, поглядывал на меня с опаской и после моих реплик старался облечь свои сообщения в более правдоподобную форму.
Однако вскоре я почувствовал, что критика действий Юревича и его помощников небезопасна. Шпиономания и экзальтированная «повышенная бдительность» достигали все больших и больших высот, и я решил, что благоразумнее будет не вмешиваться в эти дела, тем более что по роду службы, к счастью, они не имели ко мне никакого отношения, а сам я был по горло занят нужной работой по искоренению бандитизма и уголовщины.
Через некоторое время Стырне приказом по УНКВД назначил Юревича своим помощником по УНКВД. Всем нам он постоянно ставил Юревича в пример.
Вот у вас, Михаил Павлович, много бандитов и убийц, — говорил мне Стырне. — Надо придавать вашим делам политическую окраску. Я уверен, что среди них имеется много заброшенных к нам шпионов и террористов.
Не говорите глупостей, Владимир Андреевич, — решительно возражал я. — Никаких шпионов-террористов у меня нет. Все наши заключенные — это отпетые бандюги и рецидивисты.
Однако, несмотря на то, что Стырне всячески рекламировал Юревича как ставленника Ежова и замечательного следователя, он не только не мог присутствовать на допросах, чинимых Юревичем, но даже старался не находиться в это время по соседству, чтобы не слышать стонов и криков, раздававшихся поздними вечерами и по ночам из кабинета Юревича. С тех пор как Юревич начал заниматься своим страшным делом, Стырне почти каждый вечер стал уходить домой раньше обычного.
Как-то я столкнулся с ним, идущим домой, и спросил, почему это он теперь так рано заканчивает работу.
Владимир Андреевич в первый момент несколько смутился и признался, что ему неприятно слышать, как ведет допросы Юревич. Признание Стырне в том, что ему «неприятно слышать, как ведет допросы Юревич», было единственным намеком на его внутреннее, в какой-то степени критическое отношение к «новым методам» работы в НКВД. Во всех остальных случаях наших с ним разговоров, касающихся этой темы, Стырне всегда бодро уверял меня, что «все идет хорошо, все правильно», ужасался огромному количеству выявленных «врагов народа» и советовал «выполнять приказы, помалкивать и не рассуждать».
Насколько мне известно, Стырне никогда не откровенничал и придерживался строго официального тона не только со мною, но и со своим заместителем, старейшим чекистом Николаем Ивановичем Добродицким.
В Иванове у меня с Добродицким наладились самые дружеские взаимоотношения. Из работников УНКВД он был единственным человеком, к которому я относился с таким большим уважением и доверием.
Сейчас не могу вспомнить, в какой именно период (после отозвания Стырне или при нем, скорее первое), но однажды, когда мы были с Николаем Ивановичем наедине, он сказал:
— Я не верю, Михаил Павлович, чтобы все арестованные были виновными. Тут какой-то сумасшедший дом. Вчера сидел с товарищем на партактиве, а сегодня его берут как троцкиста и врага народа.
Впервые услышав подобные слова от товарища, коммуниста, я растерялся и не знал, как реагировать на них. С одной стороны, я очень доверял Добродицкому и знал, что ему, как заместителю начальника УНКВД, было лучше других известно все и о методах ведения следствия, и о самих арестованных, с которыми он безусловно сталкивался, мог разговаривать и т.п., но с другой стороны... Нам с таким усердием и с такой настойчивостью вдалбливали в голову, что любой товарищ, работающий рядом, может оказаться замаскированным врагом народа, что мы невольно начинали подозревать друг друга в предательстве, в троцкизме и черт знает в чем еще. И у меня невольно мелькнула мысль: а вдруг Николай Иванович нарочно провоцирует меня, чтобы вызвать на откровенность? Или, что еще страшнее, вдруг он сам троцкист? С трудом отгонял я от себя эти мысли. Во всяком случае, я попытался замять разговор, сказав Добродицкому, что мне об этом ничего не известно, и дав понять, что я не хочу говорить на эту тему.
Страшно вспоминать о том времени, когда мы начинали терять доверие к своим самым близким друзьям.
Вскоре после этого, приехав в командировку в Москву, я был на очередном приеме у начальника главного управления милиции и заместителя наркома НКВД Василия Васильевича Чернышева, занявшего этот пост после перевода Л. Н. Вельского.
В.В.Чернышев был героем гражданской войны, кавалером двух орденов Красного Знамени, до этого работал начальником управления погранохраны Дальнего Востока. С самого начала у меня с В. В. Чернышевым установились очень хорошие, почти дружеские взаимоотношения.
Когда закончилась деловая часть беседы, я рискнул в осторожной форме высказать свои сомнения в отношении правильности арестов ряда крупных партийных работников.
— Я не думаю, чтобы арестовывали невиновных, — сказал Чернышев. — Вот, например, недавно арестован бывший начальник управления милиции Москвы Буль, который уже признался в шпионаже и в принадлежности к правотроцкистскому центру, орудовавшему в НКВД под руководством Ягоды. Так неужели вы можете думать, что его невинно арестовали?
На мою реплику, что он мог дать на себя показания в результате применяемых пыток, Чернышев ответил, что он не знает, как допрашивали Буля, так же как и вообще ничего не слышал о пытках.
— Ведь вы, кажется, дружили с Булем? — как бы между прочим спросил я у Чернышева. — Может быть, вы что-нибудь о нем знаете?
— Я ушел из МУРа в связи с конфликтом, произошедшим между мною и Булем, и в последнее время отношения у нас были натянутыми. Но тем не менее я считал и считаю Буля честным человеком.
(Много позднее — во второй половине 1938 года, — находясь в Бутырской тюрьме, я слышал от одного из подследственных, что он ранее сидел вместе с бывшим секретарем Дальневосточного крайкома партии Лаврентием Картвелишвили, который до этого находился в одной камере с Булем. Со слов Картвелишвили, Буля подвергали неслыханным, нечеловеческим пыткам, но он никаких «показаний» ни на себя, ни на других не давал. И хотя я узнал об этом, что называется, через третьи руки, все же я гораздо больше склонен поверить им, чем сообщению Чернышева о якобы немедленном признании Буля.)
В конце мая или в начале июня 1937 года мы с женой и малышами выехали на дачу в поселок Ломы, в 18 километрах от Иванова. На этот раз мы получили бревенчатую избушку с печкой. Такие же избушки, разбросанные по лесу на некотором расстоянии одна от другой, без всяких заборчиков, занимали почти все ответственные партийные и советские работники Иванова. Исключение составляли лишь дача Носова и бывшая дача Агеева, представляющие собой двухэтажные дома, выгороженные из общей территории заборчиками. Дача Агеева стояла пустой. (Позднее туда временно въехала семья нового начальника УНКВД Радзивиловского*1.)
_____
*1. Радзивиловский А. П. — старший майор госбезопасности. Расстрелян в 1940 году.
Жил в это лето на даче в Ломах и Николай Иванович Добродицкий. Его избушка была в трех минутах ходьбы от нас.
Как-то к нему приехал в гости на один день его бывший сослуживец и товарищ Семен Иванович Шемена, с которым Николай Иванович меня познакомил. От Добродицкого я узнал, что в то время жена Шемена была арестована якобы как шпионка, а сам он находился в резерве и еще не знал, куда забросит его судьба. Мы вместе поужинали, а затем мы с женой в 11 вечера пошли домой.
На следующее утро жена Добродицкого рассказала нам, что Николай Иванович и Шемена почти всю ночь просидели за бутылкой вина, обсуждали какие-то события и Николай Иванович рыдал, как ребенок. Мне, конечно, было понятно, что разговор с Шеменом был на ту же наболевшую тему, которая тогда больше всего волновала Николая Ивановича, о чем он уже говорил со мною.
В соседней с нами избушке жил с женой и сыном-подростком заведующий облторготделом Б. Б. Борисов.
Борисов был незаменимым работником по части снабжения. В то время в нашей стране очень многие строительные материалы, а также промтовары и продукты питания были остродефицитны. Борисов же ухитрялся доставать все, что требовалось для областных организаций. В прошлом, до Иванова, он работал в Одессе в органах ГПУ и поэтому был прекрасно знаком с методами работы НКВД и милиции.
Вспоминаю, как при встречах он спрашивал меня
— Ну как? Твои стукачи сообщают тебе о моих снабженческих делах?
— Конечно, сообщают, — отвечал я.
— Ну, а говорят, что я беру что-нибудь лично для себя? — допытывался он.
— Даже если не говорят, то я все равно сам знаю, — смеясь, утверждал я.
— Не верь, — искренне и серьезно заверял он. — Я, конечно, ем, пью, но ничего лишнего себе не позволяю.
Снабженческие таланты Борисова ценили в обкоме и облисполкоме, но тем не менее Носов позволял себе по отношению к нему пренебрежительное отношение. Не помню, от кого я слышал о том, что на одном из заседаний обкома, когда решался вопрос о каком-то очень дефицитном и необходимом для области продукте или товаре, Носов небрежно бросил:
Это наш областной жулик достанет!
Иван Петрович, — встал обидевшийся Борисов, — ведь я жульничаю по вашим указаниям и требованиям, и если я «областной жулик», то как же следует величать вас?
На это Носов ответил какой-то нечленораздельной репликой.
Однажды Борисов позвонил мне по телефону на работу:
— Тебе, наверное, вскоре донесут о том, что я совершил одну не совсем законную махинацию. Так учти, что она сделана с санкции обкома. Это очень нужно, просто не обходимо для области.
Я позвонил заместителю председателя облисполкома Василию Королеву, с которым был в хороших отношениях.
Какую это вы незаконную сделку разрешили совершить Борисову во имя процветания области?
А ты уже знаешь? — удивился он. — Я тебя очень прошу, капитан (он обычно любил называть меня так), не поднимай шума. Это действительно было крайне не обходимо.
Все эти разговоры, конечно, велись в полушутливом тоне, хотя говорили мы о самых реальных вещах и подобные нарушения с санкции руководящих работников обкома и облисполкома нет-нет да и совершались.
Помню, в облисполкоме, в кабинете у Королева, долгое время красовалась выставка областных умельцев. Тут были и палехские шкатулки, и изделия из Гуся-Хрустального, образцы дорогих текстильных материалов и многие другие ценные вещи.
Придя по какому-то вопросу к Королеву, я с нарочитой внимательностью, молча стал ходить вдоль стендов, как бы стараясь получше разглядеть экспонаты.
— Что, нравится? — тоном радушного хозяина, угощающего гостя диковинками, спросил меня Королев.
— Да не то чтобы нравилось. Просто я подсчитываю количество особо дорогих экспонатов. На всякий случай! — сделал я упор на последних словах.
— Ну и стервец же ты, капитан, — шутливо выругался Королев.
Но тем не менее мы с ним прекрасно знали, что большинство дорогих экспонатов в конечном итоге будут «списаны на подарки» вышестоящим товарищам. Увы, в те годы это все чаще и чаще практиковалось и прочно входило в быт.
В июне или в начале июля 1937 года В.А. Стырне сообщил мне, что его отзывают в Москву. Перед отъездом Владимир Андреевич был очень расстроенным и явно нервничал. Ведь в то время кроме Салыня было уже арестовано много его друзей, соратников по прошлой работе. (Позднее я узнал, что Стырне получил назначение на должность начальника КРО Украины, уехал в Киев и вскоре там был арестован вместе с женой Александрой Ивановной.)
Сразу же после отъезда Стырне в Иваново прибыл назначенный начальником УНКВД Александр Павлович Радзивиловский со свитой, состоящей из стенографистки Любы Рогожиной и сотрудников: А. В. Викторова*1, Петра Ряднова и Егора Саламатина.
_____
1 Викторов А. В. — начальник отдела НКВД Казахской ССР. В 1939 году арестован, осужден к пяти годам исправительно-трудовых лагерей.
Саламатина я знал по работе в особом отделе Московского военного округа с 1927 года. Тогда он был помощником уполномоченного, считался весьма неспособным (даже тупым) и всегда был на побегушках у начальства. Его больше использовали для добывания поллитровки и закуски, чем по работе. В Иванове Радзивиловский назначил Саламатина на должность оперативного секретаря УНКВД, но назначение это по существу было только формальным, фактически же он являлся одним из палачей, избивавших и истязавших подследственных, а затем расстреливавших их. Из Москвы он уже приехал законченным, совершенно озверевшим садистом и не мог разговаривать с собеседником, мрачно не поглядывая на него, как бы примеряясь и выискивая самые уязвимые места. На любого человека он смотрел как на своего возможного подследственного.
Александра Викторовича Викторова я ранее никогда не знал, слышал, что он был солдатом русского экспедиционного корпуса во Франции, затем был у белых, после освобождения Крыма, видимо, за какие-то заслуги попал в органы. Вел себя по отношению ко всем сотрудникам в Иванове очень вежливо, отличался спокойствием и хладнокровием. Формально он был назначен заместителем начальника СПО, фактически же выполнял обязанности заместителя начальника УНКВД и был главным инквизитором, палачом и фальсификатором.
Петра Ряднова я не только знал с 1922 года как работника Московского губернского отдела ГПУ и активного комсомольца, но и рекомендовал его в 1923 году в числе других комсомольцев в члены партии. В 1925 году он ушел из органов и работал где-то в издательстве. Каким образом и когда он снова попал в органы, мне неизвестно, но с Радзивиловским он уже приехал в качестве начальника третьего отдела и тоже, видимо, прошел школу опытного палача. Как я узнал немного позднее, перед приездом в Иваново Ряднов работал под руководством Радзивиловского в аппарате УНКВД Московской области, где проявил себя достойным проводником кровавых дел Ежова.
В один из первых дней после приезда он зашел ко мне в кабинет «на правах старой дружбы». Я стал расспрашивать его, что же это такое делается в органах и неужели все арестованные действительно являются врагами. Сбивчиво и невразумительно он стал доказывать мне, что никому доверять нельзя, так как повсюду, кругом нас враги, которых надо только бить и бить. Во время нашего разговора у него как-то странно бегали глаза. Он произвел на меня впечатление не совсем нормального человека, страдающего шпиономанией. Больше я уже не хотел с ним разговаривать, поскольку почувствовал, что этот человек не имеет ничего общего с тем Петей Рядновым, которого я знал в 1922 — 24 годах.
С Радзивиловским и его женой Софьей Борисовной я познакомился в 1925 году в Симферополе. Тогда он только начинал работать в органах и был на небольшой должности. В 1928 году, выезжая в командировку по городам Белоруссии, я встретил его в Гомеле, где он работал, кажется, начальником одного из отделений СПО, а вскоре переехал в Москву и получил комнату в той же квартире № 15 по Варсонофьевскому пер., №4, где жил и я. За время жизни в одной квартире (1928 — 29 годы) я ближе познакомился с Радзивиловским и его женой, очень любил их сынишку Виктора и часто возился с ним. Мы с Радзивиловским называли друг друга по именам, и он относился ко мне с подчеркнутым уважением, как в некотором роде к вышестоящему и имеющему какое-то положение в органах, хотя по работе мы с ним никогда не сталкивались. Сразу же по приезде в Москву Радзивиловский фактически стал выполнять обязанности сотрудника для особых поручений при заместителе начальника СПО Агранове.
В Москве началась невероятно быстрая карьера Радзивиловского. Он вообще был умным и способным работником. (Кстати, на работу в органы ЧК он попал по комсомольской путевке, как один из лучших комсомольцев Крыма.) Попади он в другую организацию и к хорошему руководителю, возможно, он принес бы нашей стране большую пользу. Но судьба распорядилась иначе, и Радзивиловский, постепенно подпадая под влияние карьеристов-ягодовцев, сам пошел по этой линии, в дальнейшем намного опередив своих первых «наставников». Радзивиловского стали включать в следственные группы по самым важным делам, в частности, он участвовал в следствии по делу Промпартии, после чего вскоре был назначен начальником СПО полпредства ОГПУ по Московской области, затем по совместительству помощником полпреда, а через некоторое время — заместителем полномочного представителя ОГПУ (а позднее УНКВД) Московской области С.Ф.Реденса.
Работая в УНКВД Московской области, Радзивиловский часто бывал у секретаря МК партии Кагановича, который поддерживал его. Радзивиловский же видел в лице Кагановича «правую руку» Сталина и безотказно, с готовностью выполнял все указания, исходящие свыше.
В период работы в Иванове Радзивиловский рассказывал мне и другим сотрудникам, что в 1936 — 37 годах в Москве Каганович очень нажимал на начальника УНКВД Московской области Реденса и на него, Радзивиловского, требуя «усилить борьбу с врагами народа — троцкистами». Тогда же от Радзивиловского я слышал, что он вел в Москве дело на каких-то крупных работников, содержащихся в Лефортовской тюрьме, и что туда неоднократно приезжали Молотов, Каганович и Маленков и присутствовали на допросах.
Радзивиловский хвастался, что благодаря его энергии (Реденса при этом он не упоминал) УНКВД Московской области вышло тогда по Союзу на ПЕРВОЕ МЕСТО по борьбе с «врагами народа». И за образцовое выполнение «особых заданий правительства» он и Реденс были представлены Ежовым при поддержке Кагановича к награждению орденами Ленина. (В чем состояли эти «особые задания», мне тогда было неизвестно, но несколько позднее я узнал, что во второй половине 1936 и в 1937 гг. в Москве по сфальсифицированным делам было арестовано и расстреляно большое количество так называемых правотроцкистов, а по существу, честных и преданных делу коммунизма революционеров, крупных партийных руководителей, военных деятелей и т.д.)
Приехав в Иваново, Радзивиловский отнесся ко мне как к старому знакомому, довольно дружелюбно, несмотря на то, что стал большим начальником. Правда, Сашей и Мишей мы уже были только наедине, а при других именовали друг друга по имени и отчеству.
Когда в первые дни приезда я спросил у Радзивиловского, приедет ли к нему новый заместитель из Москвы или останется Добродицкий, он с неприязнью сказал:
— На кой черт мне нужна эта мягкосердечная ж...!
Меня резанули его Цинизм и грубость, и я напомнил ему, что Николай Иванович заслуженный чекист, трижды награжденный орденами Красного Знамени. Но Радзивиловский досадливо махнул рукой, как бы говоря, что вопрос о своем заместителе как-нибудь решит сам, и добавил еще что-то вроде того, что теперь, мол, такие работники, как Добродицкий, только тормозят выполнение важнейших заданий.
Встретившись и поговорив с ним еще несколько раз, я убедился, что Радзивиловский стал уже совсем другим человеком. Ежовская годичная школа по фальсификации дел и изготовлению «врагов народа» превратила его в законченного карьериста, не брезговавшего никакими методами и никакими средствами, лишь бы угодить вышестоящим и самому продвигаться к вершинам власти.
После приезда в Иваново Радзивиловского с «компанией» количество арестов руководящих партийных и советских работников резко возросло, а на допросах усилились избиения и пытки, в которых теперь принимали активное участие кроме Юревича «свежие силы» в лице Саламатина, Викторова и Ряднова.
Не знаю, принимал ли участие в избиениях сам Радзивиловский. Возможно, пользуясь своим положением большого начальника, он самоустранялся от этого грязного дела, но тем не менее основная ответственность за то, что творили его подчиненные, ложилась на него.
Постепенно через некоторых сотрудников УНКВД мы узнавали все более и более страшные подробности о «новых методах» ведения следствия.
Однажды вечером я зашел к Радзивиловскому на квартиру и, пользуясь тем, что мы были с ним одни, задал ему наболевший вопрос:
Саша, неужели ты не боишься ответственности за те избиения и, говорят, даже пытки, которые твои под чиненные применяют к арестованным?
Ты оторван от органов и не понимаешь политической обстановки, — ответил он мне. — Вот на совещании у Николая Ивановича Ежова он сказал нам, что надо любыми методами добиваться выкорчевывания правотроцкистской нечисти... И посмотри, что делается: когда допрашиваешь по-хорошему, они не признаются, а как толь ко понаддадут им, так сразу и разматываются.
— А где гарантия, что они под пытками не оклевещут себя и других невинных людей?
Радзивиловский рассмеялся:
— Если человек действительно невиновен, он никогда на себя ничего не напишет.
(Не знаю, была ли это поза или он действительно так думал. Во всяком случае, в 1938 году ему пришлось испытать свою «теорию» на собственной шкуре, когда с приходом в Наркомвнудел Берии он был арестован и затем, естественно, расстрелян. Такая участь в конечном итоге постигла многих фальсификаторов и палачей. Поскольку их руками уничтожались невиновные, позднее они сами должны были быть уничтожены как свидетели и исполнители злодеяний.)
Первым из ответственных работников, проживающих рядом с нами в дачном поселке Ломы, после приезда Радзивиловского был арестован завоблторгом Борисов. Наутро после ареста мужа его жена ходила вокруг дачи, собирая вещи, накрывшись с головой каким-то одеялом. Оказаться в те дни женой «врага народа» было великим позором. Кажется, Борисова с сыном успела уехать из Иванова. Тогда еще не было указания арестовывать вместе с мужьями и жен.
Когда после ареста Борисова было объявлено, что он «троцкист», я отнесся к этому сообщению с большим сомнением, так как знал, что Борисов исполнительный служака и не особенно политически развит. Он скорее мог пойти на какую-либо коммерческую махинацию (с ведома начальства), но никак не верилось, что он мог быть политическим врагом советской власти.
Примерно в этот же период мы как-то под вечер прогуливались с Николаем Добродицким по нашему дачному поселку. Возле одной из дач мы увидели девочку лет семи, дочку члена бюро обкома, старого большевика, председателя облпотребсоюза Александра Сергеевича Серова, в прошлом члена коллегии Ярославской губернской ЧК. Увидев девочку, Николай Иванович сказал:
— Вот бедная девочка играет и не знает, что час тому назад арестовали ее отца, которого, возможно, уже пытают.
Я был поражен.
— За что же его взяли и как это могло случиться? — спросил я.
— За что взяли? — с грустной улыбкой переспросил Добродицкий. — Его взяли по модному диагнозу, как «врага народа». Правда, я его мало знаю, но, сталкиваясь с ним два-три раза, вынес о нем самое хорошее впечатление.
— Но раз он не виновен ни в чем, его должны освободить, — возразил я.
Эх, Михаил Павлович, — тяжело вздохнув, сказал Николай Иванович. — Как вы наивны и как должны быть счастливы, что работаете в милиции и не знаете, что творится на нашей грязной кухне.
Добродицкий очень недолгое время оставался заместителем Радзивиловского. Вскоре его отозвали в Москву.
Не помню уже, в июле или августе 1937 года я был в командировке в Москве и, позвонив на квартиру Николаю Ивановичу, узнал, что он собирается в Иваново сняться с партучета. Мы отправились на вокзал, где для нас было забронировано отдельное двухместное купе. Николай Иванович был сильно выпивши и весь вечер с мрачной убежденностью говорил страшные и крамольные по тому времени вещи о том, что «не стоит жить, если в органах применяются пытки и избиения», да и как вообще можно жить, если невиновных людей расстреливают, и что всех нас, в частности, и его, и меня, ждет такая же участь. Я всячески пытался успокоить его и уверял, что я ни в чем не виноват и поэтому не боюсь и уверен, что меня не арестуют, а также верю, что и он, Добродицкий, ни в чем не виноват и поэтому ему также нечего бояться.
— Эх, Михаил Павлович, какой же вы неисправимый оптимист, — сокрушенно вздыхал Добродицкий. — А вы разве уверены, что те товарищи, которые уже расстреляны, все «враги народа» и в чем-либо виноваты?
Хотя мы ехали в отдельном купе и стук колес заглушал наш негромкий разговор, все же мне было не по себе и я побаивался говорить на эту тему. Как мог, я старался успокоить Добродицкого и внушить ему, что все не так страшно. Наконец он заснул, а утром, когда проснулся, первым делом спросил:
— Михаил Павлович, я вчера чего-то очень много лишнего вам наболтал?
— Что вы, Николай Иванович. Вы мне ничего не говорили, — сказал я, прямо глядя ему в глаза.
Это была молчаливая договоренность о том, что в «случае чего» мы с ним ни о чем не разговаривали. Он меня понял.
На следующий день Добродицкий, снявшись с партучета, уехал в Москву, затем в Караганду. ВВ сентябре или октябре 1938 года он был там арестован, привезен в Москву и вскоре расстрелян.
Кровавая волна ежовщины катилась по всему Советскому Союзу. Со слов Радзивиловского мы знали, что еще в конце июня или начале июля 1937 года Сталин на заседании Политбюро поставил перед Ежовым вопрос о «необходимости усилить борьбу» с так называемыми «врагами народа», «засевшими в партийных организациях республик, краев и областей». В качестве одной из мер в этом направлении Сталин предложил полностью обновить руководство республиканских, краевых и областных аппаратов НКВД путем «смелого выдвижения молодых, способных чекистов», причем было подчеркнуто, что выбирать надо «независимо от партстажа», а главное, «активно проявивших себя в проведении следствия и разоблачивших самое большое количество «врагов народа». Естественно, в эту категорию попадали самые отъявленные негодяи.
И вот Ежов начал «смело выдвигать способную молодежь», то есть абсолютно бездарных в оперативном отношении работников, но зато способных на любые фальсификации и подлости и с успехом применяющих избиения и изощренные пытки над подследственными.
Так, например, начальником УНКВД в Калинин был направлен бывший уполномоченный 4-го отделения ЭКУ, весьма слабый работник Коновалов; в Смоленск — бывший уполномоченный ЭКУ центра, так же ничем не блиставший в прошлом Алексей Наседкин*1. Начальником НКВД Куйбышевской области был назначен бывший оперуполномоченный Красноярского УНКВД, изощренный садист Журавлев*2 (позднее переведенный начальником УНКВД в Иваново). Так же из оперуполномоченных Красноярского УНКВД «выдвинулся» как способный фальсификатор Афанасий Блинов*3, занявший после Радзивиловского и Журавлева пост начальника УНКВД Ивановской области, а затем ставший при Берии заместителем министра госбезопасности.
_____
*1. Наседкин А. А — майор госбезопасности, нарком НКВД Белорус сии. Расстрелян в 1940 году.
*2. Журавлев В. П. — в 1937 году капитан госбезопасности, начальник УНКВД по Куйбышевской, затем по Ивановской и Московской областям. О его судьбе после 1939 года ничего неизвестно.
*3. Блинов А. С. — репрессирован не был; в 1945 году — генерал-лейтенант госбезопасности, замминистра госбезопасности СССР.
В Орловское УНКВД начальником был послан бывший работник УНКВД Белоруссии, а затем УНКВД Московской области страшный подхалим и карьерист Симановский*1, который с таким рвением и энтузиазмом и в таком огромном количестве принялся уничтожать фабрикуемых им самим «врагов народа», что их не успевали как следует закапывать в лесу в окрестностях города Орла, где производились расстрелы. (В 1938-м или 1939 году, находясь в Бутырской тюрьме, я слышал от арестованных сотрудников Орловского УНКВД, что, когда колхозники наткнулись в лесу на торчащие из-под земли руки и ноги неглубоко закопанных трупов и сообщили об этом местным властям, произошел скандал, в связи с которым многие работники УНКВД, а также, кажется, и сам Симановский были арестованы. Не знаю уж, что им инкриминировалось, но вряд ли перегибы, а скорее — халатное отношение к своим обязанностям, в связи с чем была разглашена государственная тайна.)
_____
*1. Симановский П. Ш. — майор госбезопасности, начальник УНКВД по Орловской области. Расстрелян в 1941 году.
Наркомвнуделом Узбекистана неожиданно для всех нас назначили бывшего уполномоченного, работника ЭКУ Апресяна. До ЭКУ он был на партийной работе где-то в Закавказье, а в 1928 году я помнил его как хорошего, очень веселого и скромного товарища. Каким он стал в условиях ежовщины, мне неизвестно, но, со слов товарищей, став наркомом, он так же, как и другие выдвиженцы, активно проводил в жизнь кровавую линию Ежова.
В конце 1937 года, проявив себя в Иванове талантливым инквизитором, «доверенное лицо Ежова», наш начальник СПО Юревич был выдвинут на должность начальника УНКВД Кировской области.
Примерно в то же время Ежовым были выдвинуты привезенные еще при Ягоде с Украины бывшим полпредом ОГПУ Балицким Люшков, Коган и Ушаков. Люшков по приезде с Украины был назначен заместителем начальника СПО и в то время казался довольно скромным человеком и неплохим работником. В противоположность ему Коган, назначенный начальником одного из отделений СПО, был малоприятным человеком и большим карьеристом.
Когда Ягоду сменил Ежов, он назначил Люшкова полпредом ОГПУ но Дальневосточному краю, а Когана его заместителем. Оба они начали активно претворять в жизнь ежовскую линию, но, когда начались аресты старых работников НКВД, Люшков, захватив ряд секретных документов, бежал в Японию, где вскоре появились его фотографии в группе японских контрразведчиков и сенсационные документы о ежовских методах следствия. (О побеге Люшкова в Японию руководящий состав НКВД информировали на оперативных совещаниях.)
После измены Люшкова на Дальний Восток была послана группа самых доверенных людей Ежова, в числе которых были бывший работник Ушаков и Григорий Якубович.
Ушакова я впервые увидел в 1925 году в Севастополе, где он одновременно со мною лечился в институте имени Сеченова. Уже тогда украинские чекисты Добродицкий и Александрович отзывались об Ушакове как о пакостном человеке и карьеристе. В Москве он сначала был назначен помощником начальника одного из отделений особого отдела, а затем начальником отделения и производил очень неприятное впечатление своим подхалимством перед начальством и огромным желанием выслужиться. С приходом в органы Ежова Ушаков стал преуспевать по части фальсификации и садистских методов ведения следствия и начал быстро выдвигаться. После его изощренно-садистской работы в группе «особо доверенных лиц» Ежова на Дальнем Востоке он понес заслуженную кару и был расстрелян в очередном туре.
Примерно тогда же «выдвинулся» бывший бесталанный оперативник, фокстротчик и беспринципный человек Виктор Абакумов.
В 1933 году, когда я работал начальником 6-го отделения ЭКУ Московской области, мне позвонил первый заместитель полпреда ОГПУ Московской области Дейч и порекомендовал мне «хорошего парня», который не сработался с начальником 5-го отделения, и хотя он «звезд с неба не хватает», но за него «очень-очень просят». Кто именно просит, Дейч не сказал, но, судя по тону, это были очень высокопоставленные лица, а скорее всего, их жены.
Возьмите его к себе и сделайте из него человека... А если не получится, выгоните к чертовой матери». Затем Дейч добавил, что Абакумов чуть ли не приемный сын одного из руководителей Октябрьского восстания — Подвойского.
Поскольку мне как раз нужны были работники, я принял Абакумова, поручив ему керамическую и силикатную промышленность, и предупредил, что буду требовать полноценную работу и никаких амурных и фокстротных дел у себя в отделении не потерплю. (О слабости к этим делам Абакумова я предварительно навел справки у начальника 5-го отделения.)
В течение первых двух месяцев Абакумов несколько раз докладывал мне о якобы развиваемой им огромной деятельности.
Воспользовавшись тем, что близкая подруга моей жены принимала его ухаживания, Абакумов несколько раз заходил с нею ко мне в гостиницу «Селект», где я сначала жил, а затем и на квартиру, которую как раз в этот период я получил в Большом Кисельном переулке. Причем дважды — один раз в гостинице, а второй — на квартире — в тот момент, когда Абакумов был у меня, неожиданного заходил Островский, который немедленно его выгонял, процедив сквозь зубы вполголоса: «А что делает здесь этот фокстротчик? Вон отсюда!» — и Абакумов мгновенно ретировался.
Через два месяца я решил проверить работу Абакумова. В день, когда он должен был принимать своих агентов, я без предупреждения приехал на конспиративную квартиру, немало смутив Абакумова, поскольку застал его там с какой-то смазливой девицей. Предложив Абакумову посидеть в первой комнате, я, оставшись наедине с этой девицей, стал расспрашивать ее о том, откуда она знает, что такой-то инженер (фамилия которого фигурировала в подписанном ею рапорте) является вредителем. А также, что она понимает в технологии производства, являясь канцелярским работником? Она ответила, что ничего не знает, а рапорт составлял Виктор Семенович и просил ее подписать. Далее мне без особого труда удалось установить, что у нее с Абакумовым сложились интимные отношения с самого начала «работы».
При проверке двух других «завербованных» Абакумовым девиц картина оказалась такой же.
На следующий день я написал руководству ЭКУ рапорт о необходимости немедленного увольнения Виктора Абакумова как разложившегося и непригодного к оперативной работе, да и вообще к работе в органах. По моему рапорту Абакумов был из ЭКУ уволен. Но какая-то «сильная рука» снова поддержала его, и он был назначен инспектором в Главное управление лагерями.
Не знаю уж, когда именно его перевели из ГУЛАГа обратно в НКВД, но, видимо, он оказался способным и растущим фальсификатором и палачом и поэтому после прихода в органы Ежова был назначен начальником УНКВД в Ростовскую область.
Надо полагать, что Абакумов, как и многие другие подлецы, взлетевшие в 1937 — 38 годы с головокружительной быстротой вверх по служебной лестнице, сделал свою карьеру с помощью здоровых кулаков и садистских наклонностей, которые по указанию Ежова, а затем Берии с успехом применял против ни в чем не повинных людей.
Я не знал основных этапов головокружительной карьеры Абакумова, но от кого-то из товарищей слышал, что он приложил руку к провокационному делу группы военачальников во главе с Тухачевским. Во всяком случае, я был ошеломлен, когда узнал, что начальник Ростовского областного управления НКВД Абакумов после кровавого разгрома партийных и руководящих кадров Ростовской области стал начальником особого отдела Центра. А затем в числе немногих, начавших свою карьеру при Ежове, с еще большим успехом продолжал ее при Берии. Во время Отечественной войны был начальником СМЕРШ — «Смерть шпионам», переименованного особого отдела, потом заместителем министра госбезопасности—Берии, заместителем министра обороны и, наконец, министром госбезопасности.
Люди подобного типа выдвигались как особо доверенные на руководящую работу в органах, причем им предоставлялись особые и, по существу, ничем не ограниченные полномочия.
Таким образом, с приходом в органы Ежова был обновлен почти весь руководящий состав НКВД во всех республиках, краях и областях. Исключение временно составляли некоторые сослуживцы и ставленники М. П. Фриновского, ставшего первым заместителем у Ежова. Так, например, в Новосибирске остались начальник УНКВД Горбач и его заместитель Мальцев, в центральном аппарате в Москве остались Джурит-Николаев, Минаев и некоторые другие. Но всем им фактически дана была только небольшая отсрочка.
Как я уже упоминал, в Иванове обновление аппарата НКВД было произведено назначением Радзивиловского и его подручных.
В июле 1937 года в адрес всех секретарей обкомов, крайкомов и начальников УНКВД пришло директивное письмо за подписью секретаря ЦК наркомвнудела Ежова, в котором снова было указано, что работа органов по выкорчевке «врагов народа» проводится слабо, что арестованные «враги народа» содержатся чуть ли не в санаторных условиях.
Помню, что в этой директиве была фраза, что «враги народа» допрашиваются следователями «в белых перчатках». Этим как бы давалось указание усилить применение физических методов воздействия на арестованных при следствии и об установлении более тяжелого режима для находящихся под стражей.
Тем не менее, несмотря на прямые установки, вокруг подобных «методов» следствия в какой-то мере поддерживалась конспирация. Арестованных избивали и пытали поздно вечером и ночью, когда технических работников в управлении не было, и вслух о методах допросов никто не говорил. (Только несколько месяцев спустя — при Берии, — когда начальником Ивановского УНКВД стал Журавлев, избиения и пытки применялись уже вполне открыто, следователи и их подручные ходили из своих кабинетов в камеры и по коридорам в любое время дня с резиновыми дубинками в руках.)
Однако директив об усилении физических методов, а также об установлении более тяжелого режима в тюрьмах показалось мало. Поэтому в конце июля или начале августа 1937 года Сталин направил по республикам, краям и областям особоуполномоченных ЦК, чтобы наладить и обеспечить на местах выполнение его личных указаний об усилении репрессий и о полном разоблачении руководителей обкомов, горкомов, райкомов, горсоветов и райисполкомов, а также руководителей всех других партийных, государственных и хозяйственных организаций, которые, по мнению Сталина, в большинстве своем состояли из троцкистов, бухаринцев, зиновьевцев, рыковцев и т.п.
Насколько помню, в Ленинград на помощь Жданову выехал Маленков; на Украину — Хрущев (который до этого, будучи вторым секретарем ЦК партии, вместе с первым секретарем Л. М. Кагановичем принимал участие в уничтожении руководителей МК, райкомов и райисполкомов Москвы и области. В частности, в Моссовете остался в живых только председатель — Булганин, а все его заместители — Усов, Хвесин, Штернберг и другие — были расстреляны).
В Грузии и Азербайджане «полномочными представителями» Сталина, которым было доверено провести уничтожение так называемых «врагов народа», были Берия и Багиров.
В Ярославскую и Ивановскую области полномочными представителями ЦК для осуществления указаний Сталина об «усилении борьбы с врагами народа» были направлены Каганович и Шкирятов.
В первых числах августа 1937 года они находились в Ярославле. От Радзивиловского, который, видимо, осуществлял повседневную связь с Кагановичем, нам стало известно, что секретарь Ярославского обкома Нефедов, которого все мы знали как честнейшего и преданнейшего партии человека, а также другие руководящие работники Ярославской области якобы подготавливали террористический акт против Кагановича и Шкирятова. Поэтому по прибытии последних в Ярославль Нефедов и другие руководящие работники были арестованы, а затем вскоре расстреляны.
Рано утром 7 августа из Ярославля в Иваново прибыл специальный поезд с группой работников ЦК, возглавляемых Кагановичем и Шкирятовым. Поскольку на Кагановича в Ярославле якобы подготавливалось покушение, мне как начальнику милиции было поручено максимально усилить охрану представителей ЦК, хотя с ними из Москвы прибыла охрана, чуть ли не 35 человек.
Встречать комиссию ЦК на вокзал прибыли все руководящие работники УНКВД, в том числе и я. (В обком и облисполком, видимо, умышленно не дали знать о приезде Кагановича и Шкирятова, и поэтому никто из руководящих партработников на вокзал не приехал.)
Когда Каганович и Шкирятов вышли из вагона, Шкирятов, увидев меня и пожимая мне руку, сказал:
— А, голубок, и ты здесь. Ну, значит, все будет в по рядке.
И, обращаясь к Кагановичу, пояснил:
— Ведь я с ним в одном номере в гостинице «Казанское подворье»/две недели жил. Мы там целый полк воров и вредителей разгромили.
(Шкирятов возглавлял комиссию ЦК, выезжавшую в 1932 году в Казань для проверки вскрытого мною дела о хищении спирта на пороховом заводе, в котором было замешано свыше 100 человек, в том числе 39 работников ГПУ. Это дело слушалось на Политбюро ЦК, где я был содокладчиком.)
Каганович и Шкирятов отказались остановиться на даче обкома партии в Ломах, где ранее намечалось их разместить, и поехали на дачу к Радзивиловскому, которая была расположена отдельно в лесу недалеко от поселка Ломы.
Мне пришлось оторвать от повседневной работы почти весь оперативный состав милиции и организовать охрану шоссе, а позади дачи Радзивиловского, в лесу, держать в боевой готовности эскадрон милицейской кавалерии.
8 августа был созван пленум обкома партии.
Носов еще оставался секретарем обкома, но Каганович, как потом выяснилось, уже привез с собой на должность первого секретаря обкома бывшего секретаря Краснопресненского райкома партии Москвы Симочкина, на должность председателя облисполкома — бывшего секретаря Дмитровского района Московской области Марчука, а на должность секретаря горкома — Виктора Александровича Аралова (впоследствии, после Великой Отечественной войны, ставшего заместителем министра соцобеспечения РСФСР) и третьего секретаря обкома — Короткова.
Перед пленумом Каганович беседовал со многими товарищами, а также и со мною. Причем он предложил мне выступить на пленуме с критикой по адресу Носова. По-видимому, ему уже рассказали о моих многократных критических выступлениях по адресу Носова, и, возможно, он знал о статье, помещенной в «Правде» в марте 1937 года, в которой подчеркивалась правильность моих критических выступлений в адрес Носова. Я согласился выступить, но совершенно не предвидел и даже на мгновение не мог себе представить, что мое выступление, равно как и выступления других товарищей, имели целью подготовить почву для ареста Носова и других руководящих работников, а затем произвести полный разгром почти всей партийной организации Иванова.
Выступая, я, как и обычно, критиковал порочные методы работы Носова и его подхалимской компании, их чванство, барство и тому подобные недостатки. Затем примерно в таком же духе выступили еще несколько местных работников.
И вдруг выступили Каганович, а за ним Шкирятов и стали обвинять руководителей Ивановского обкома (и в том числе Носова) чуть ли не во враждебной деятельности.
Я был ошеломлен таким поворотом дела. При всей своей критичной настроенности я никак не мог допустить мысли, что Носов и другие руководящие работники обкома могли быть троцкистами, а тем более врагами народа. Для меня они всегда были только зарвавшимися вельможами.
Все произошло очень быстро. Каганович и Шкирятов назвали ряд фамилий руководящих работников, обвинив их в троцкизме и прочих грехах. Всех их тут же на пленуме исключили из партии и по выходе из зала арестовали. Для этой цели Радзивиловский заранее вызвал в помещение обкома своих сотрудников.
Носов в тот день арестован не был, но был снят с работы. Взамен него по рекомендации Кагановича был единогласно избран никому не известный в Иванове привезенный Кагановичем Симочкин.
Хотя на пленуме Каганович громил многих руководящих работников как троцкистов, тем не менее он не назвал второго секретаря обкома — Ковалева. Каганович обвинил Ковалева только в недостаточной бдительности. И Ковалев еще некоторое время оставался вторым секретарем обкома.
На следующий день после пленума обкома Радзивиловский вызвал меня к себе в кабинет. У него находился Каганович.
— Михаил Павлович, тебе придется помочь нам и выполнить одно поручение, — обратился ко мне Радзивиловский. — Надо съездить в Кинешму, произвести арест
заместителя председателя облисполкома Василия Королева и доставить его сюда.
Ведь вы знаете, Александр Павлович, что я с Королевым в большой дружбе, — возразил было я, — и мне очень не хотелось бы выполнять это неприятное поручение...
Какие могут быть дружеские отношения, когда вопрос идет о враге народа, — сухо прервал меня Каганович.
Мне ничего не оставалось, как взять ордер и отправиться выполнять приказание. В мое распоряжение была предоставлена служебная дрезина, и я в сопровождении трех конвоиров отправился в Кинешму. По всем станциям было дано указание дать дрезине «зеленую улицу». В связи с этим в Кинешму немедленно донесся слух, что туда на служебной дрезине едет Каганович, и вся партийная конференция, которую проводил Королев, прибыла на вокзал и на перроне ожидала прибытия Кагановича.
Когда дрезина прибыла на станцию Кинешма и я вышел на перрон, стоявший впереди всех собравшихся Королев обратился ко мне с вопросом:
— А где же Лазарь Моисеевич?
Я ответил, что Кагановича здесь нет, и, отозвав Королева в сторону, сказал, что имею неприятное поручение к нему лично, и предъявил ему ордер на арест.
Королев изменился в лице, побледнел и упавшим голосом спросил:
— За что? В чем же я виноват?
Что я мог ему ответить — я и сам ничего не знал.
Не надо ли тебе чего-нибудь из продуктов? — спросил я.
Какие там продукты, разве можно в таком состоянии есть! — безнадежным тоном сказал Королев. — Вот если бы ты достал мне папирос...
Тут же в привокзальном буфете я купил для Королева несколько пачек папирос, и мы на той же дрезине отправились обратно в Иваново. Всю дорогу Королев допытывался у меня и сам рассуждал вслух, за что же все-таки могли его арестовать, и никак не мог припомнить ничего предосудительного.
По прибытии в Иваново я передал Королева с рук на руки Радзивиловскому. Часа через три Радзивиловский вызвал меня к себе в кабинет и, протягивая мне «показания», подписанные Королевым, о том, что он «шпион и враг народа», сказал:
— Вот видишь, Михаил Павлович, надо немножко поосторожнее быть с выбором друзей. Твой дружок Вася уже сознался.
Я с удивлением смотрел на ужасные слова признания, подписанные Королевым, и молчал. Говорить было нечего.
Из Иванова Каганович по нескольку раз в день звонил Сталину и докладывал ему о количестве арестованных и о ходе следствия. После каждого такого разговора он обращался к Радзивиловскому и требовал принять меры к ускорению дачи показаний тех или иных арестованных работников. И, несмотря на то, что Радзивиловский и его подручные действовали с исключительной быстротой и путем жестоких пыток и избиений «вырывали» у арестованных любые показания, главным образом, требуя, чтобы они оговаривали как можно большее количество свою; сослуживцев, друзей и знакомых, клевеща на них, что они являются «врагами народа», и тем самым давали бы повод для все новых и новых арестов, Кагановича и Шкирятова не удовлетворяли достигнутые результаты. Они продолжали настаивать на том, чтобы Радзивиловский еще больше увеличивал количество арестов и получал от новых подследственных развернутые показания, которые бы дали возможность арестовывать уже без числа.
Подобные разговоры Кагановича и Шкирятова с Радзивиловским несколько раз велись в моем присутствии. Раза два или три, когда кабинет Радзивиловского был занят под срочные допросы «врагов народа», Каганович разговаривал из моего кабинета в моем присутствии по кремлевскому телефону со Сталиным. В частности, при мне Каганович по ВЧ докладывал Сталину о результатах пленума и прямо заявил, что, по его мнению, Носов «запутался» и что он уверен, что Носов является руководящим деятелем правотроцкистского центра. (В это время Носов уже выехал в распоряжение ЦК в Москву, где, видимо, после этой информации Кагановича был арестован. Позднее я узнал от бывшего начальника главного управления милиции Вельского, что Носов в Москве был расстрелян.)
Закончив разговор о Носове, Каганович стал докладывать Сталину о том, сколько и каких работников обкома, облисполкома и других организаций арестовано и сколько «выявлено» новых «врагов народа». Затем, судя по его последующим ответам, Каганович выслушал приказание: усилить борьбу с врагами народа и увеличить количество арестов, так как несколько раз повторил: «Слушаю, товарищ Сталин. Нажму на руководителей УНКВД, чтобы не либеральничали и максимально увеличили выявление «врагов народа».
К моменту приезда Кагановича и Шкирятова в Иваново в связи с массовыми арестами руководящих партийных и советских работников совершенно не оставалось места в тюрьмах для уголовных преступников и бандитов, пойманных милицией. В Иванове были городская и внутренняя тюрьмы. Кроме того, большое количество тюрем во всех городах — районных центрах, не говоря уже о камерах предварительного заключения при каждом райотделении милиции. И тем не менее мест не хватало, все было забито.
Как-то мне позвонил Саламатин с просьбой дать разрешение о помещении двух подследственных НКВД в одну из камер предварительного заключения при городском отделении милиции. Я ответил отказом. Тогда ко мне пришел Викторов и повторил подобную же просьбу. Я подтвердил свой категорический отказ.
— Разместите их у себя на квартире, — в раздражении бросил я Викторову.
Оба они, видимо, пожаловались Радзивиловскому, который вызвал меня и стал уговаривать, чтобы я «помог» их работе. Я в резкой форме сказал, что у нас все помещения заняты бандитами и грабителями и я не намерен оставлять их на улице.
Радзивиловский сказал, что о затруднительном положении с тюрьмами он уже поставил в известность Кагановича и тот разрешил расширить тюремную сеть Ивановской области.
— Скоро будет достаточно места и для твоих бандитов,— закончил Радзивиловский.
И действительно, через несколько дней после отъезда Кагановича и Шкирятова в ряде городов Ивановской области были отведены дополнительные помещения под тюрьмы, а в самом Иванове для этой цели закрыли один из больших детдомов (интернат), отведя обширное здание под тюрьму, и новоявленный первый секретарь обкома
Симочкин, не задумываясь, дал согласие на закрытие детдома.
В день отъезда из Иванова Кагановича и Шкирятова на дачу к Радзивиловскому были приглашены все новые руководители обкома и НКВД. В числе приглашенных был также и я.
Каганович вел себя со всеми подчеркнуто просто и демократично, но тем не менее даже за обедом не забыл высказаться о необходимости еще усилить борьбу с «врагами народа».
Перед отъездом на вокзал Каганович благодарил поваров и других работников обслуживания за хорошо приготовленный обед и щедро раздавал «чаевые» по 100 и 50 рублей.
Отъезд Кагановича и Шкирятова был обставлен со всей возможной пышностью. На вокзале был собран весь партийный актив, а также все руководство Северной железной дороги. Все улицы, по которым проезжала машина Кагановича и Шкирятова, были оцеплены нарядами милиции.
Порядок я, конечно, обязан был обеспечить и обеспечил. Но после отъезда Кагановича и Шкирятова я вздохнул с облегчением, так как наконец-то смог вернуть к исполнению своих прямых обязанностей почти весь оперативный состав милиции, занятый эти несколько дней охраной представителей ЦК.
Вскоре после отъезда из Иванова Кагановича и Шкирятова Радзивиловский ознакомил нас с телеграммой Сталина, в которой говорилось, что «при областных отделах НКВД создаются особые тройки, которые должны разбирать дела на троцкистов, шпионов, диверсантов и крупных уголовных преступников». Причем тройке предоставляется право судить по категории № 1 (то есть приговаривать к расстрелу) и по категории № 2 (тюремное заключение на 10 лет). В тройку входили: председатель — начальник УНКВД (т. е. Радзивиловский) и члены тройки: первый секретарь обкома (т.е. Симочкин*1) и председатель облисполкома (Марчук). Прокуроры к этой «тройке» не допускались, о чем было специальное указание генерального прокурора СССР Вышинского.
_____
1 В. Я. Симочкин и М. И. Марчук были арестованы в 1938 году. Оба расстреляны по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР. Посмертно реабилитированы.
Радзивиловский предложил мне, как начальнику милиции, выделять для особой тройки дела крупных уголовных преступников, неоднократно судимых за бандитизм, убийства, грабежи, побеги из мест заключения и т.п. При этом он сообщил мне, что Ивановской области для начала выделен лимит на 1500 человек, т.е. «тройке» под председательством Радзивиловского предоставлялось право без суда и следствия расстрелять полторы тысячи человек. Порядок работы тройки был таков: составлялась повестка, или так называемый «альбом», на каждой странице которого значилось: имя, отчество, фамилия, год рождения и совершенное «преступление» арестованного. После чего Радзивиловский красным карандашом писал большую букву «Р» и расписывался, что означало: «Расстрел». И в тот же вечер или ночью приговор приводился в исполнение. Большей частью первый секретарь обкома Симочкин и председатель облисполкома Марчук подписывали страницу «альбома-повестки» на завтра, авансом.
Выполняя требования высшего руководства в лице «сталинского наркома» Ежова, Кагановича и Шкирятова, Радзивиловский в Иванове творил расправу над тысячами ни в чем не повинных, преданных партии и Сталину коммунистов, старых большевиков, беспартийных специалистов и других чем-либо выдающихся из общей массы людей.
В тот период (т. е. с июля-августа 1937 года до января 1938 года) кроме почти всех руководящих партийных и советских работников были расстреляны все бывшие эсеры; все коммунисты, имевшие какое-то, даже самое косвенное, отношение к троцкистам; многие бывшие анархисты, меньшевики; почти все бывшие служащие Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД), вернувшиеся после ликвидации таковой.
Когда с приходом в органы Ежова начались аресты старых работников органов ВЧК-НКВД, это крайне плохо отражалось на агентурной работе, в особенности на закордонной агентуре. Поэтому, не располагая никакими агентурными данными, стали арестовывать всех, кто когда-либо имел отношение к заграничной работе или проживал временно за границей. Таким образом, в порядке «перестраховки», без всяких действительных обоснований и материалов были расстреляны почти все работники КВЖД. Я лично слышал от Радзивиловского, что одна семья служащего КВЖД, приехавшая в Иваново, была расстреляна полностью (т.е. муж, жена, сыновья и дочери). Услышав об этом, я спросил Радзивиловского, как можно было допустить расстрел членов семьи. На что он ответил, что все они оказались японскими шпионами. Аресты бывших работников КВЖД производились на всей территории СССР, причем были арестованы и расстреляны чуть ли не все служащие, начиная от начальника (известного партийного деятеля) до рядовых служащих.
Тогда же по распоряжениям Радзивиловского были расстреляны почти все политические заключенные, осужденные в предыдущие годы и отбывавшие срок наказания во Владимирском центре, в Суздальском политизоляторе и в других тюрьмах, расположенных на территории Ивановской области.
После бухаринского процесса во Владимирской тюрьме отбывал десятилетний срок заключения бывший секретарь ЦК комсомола Ефим Цейтлин.
В период массовых арестов Радзивиловский поручил помощнику начальника отдела мест заключения Ф.И.Чангули лично доставить из Владимира в Иваново Ефима Цейтлина якобы для освобождения. Чангули с удовольствием отправился выполнять это приятное поручение. Конвоя с ним не посылали, был только шофер легковой машины. Федя обрадовал Цейтлина вестью об освобождении, по дороге угостил его в ресторане хорошим обедом и доставил прямо в кабинет к Радзивиловскому.
Ровно через полчаса Цейтлин без суда и следствия был расстрелян. Взволнованный Чангули прибежал ко мне поделиться этой ужасной новостью. Мы не знали, как расценивать действия Радзивиловского. То ли он, получив указание свыше о расстреле Цейтлина, совершил акт добродетели, передав ему через Чангули весть об освобождении (человек перед смертью прожил хоть один счастливый день). Но, скорее всего, это была экономия конвоя. Сообщая Цейтлину, что он едет на освобождение, можно было быть гарантированным, что он не сбежит, и поэтому не надо было посылать конвой, который в те страшные дни был нарасхват, ведь аресты и расстрелы производились ежедневно.
Так как количество арестованных все увеличивалось и увеличивалось, охватывая все новые и новые группы руководящих работников в разных организациях, Радзивиловский пытался привлечь и меня, как почетного чекиста, к следственной работе. В частности, он предложил мне вести следствие по делу арестованного заведующего облздравотделом Луговского, которого я знал как исключительно скромного и честного человека.
Скрепя сердце я вынужден был согласиться «помочь» УНКВД.
Опасаясь провокации, я вызвал к себе в кабинет в качестве свидетеля заместителя начальника уголовного розыска, бывшего чекиста Зуева.
Когда Луговского привели ко мне в кабинет, я предложил ему сесть и сказал, что мы располагаем данными, что он является членом правотроцкистской группы, в которую его завербовал бывший председатель облисполкома Агеев. (Радзивиловский вручил мне протокол допроса Агеева с указанными сведениями.)
— Вы знаете меня и мою семью не первый год, — ответил Луговской. — Заявляю вам, что никогда не отходил от линии партии, всегда боролся с троцкистами. У вас неправильные данные. По-видимому, это какая-то провокация.
Побеседовав с Луговским с полчаса, я отослал его в камеру. Затем вызвал еще раз, но с тем же успехом. Тогда я отправился к Радзивиловскому, взяв дело Луговского, в котором находилась копия протокола допроса Агеева, и сказал, что не верю показаниям Агеева, так как знаю, что Луговской — честный коммунист. Кроме того, учитывая мои дружеские отношения с Луговским, я не могу вести его дело.
(Недавно Ф. Чангули, приезжавший ко мне на дачу летом 1966 года, вспоминал, как Юревич в его присутствии докладывал Радзивиловскому, что Шрейдер, мол, разлагает подследственных, в частности — Луговского, который у него не только не признается в своих грехах, а наоборот, утверждается в отрицании их.)
Затем я сказал Радзивиловскому, что не могу запускать работу милиции и «тройку» по уголовным делам*1, которую он полностью взвалил на меня, и прошу вообще освободить меня от следственных дел НКВД или же снять с меня ответственность за работу милиции и перевести в НКВД.
_____
*1. В те годы помимо оставивших о себе страшную память особых («спец») троек работали и тройки милицейские. Суду милицейских троек подлежали уголовные преступники. Ситуация в стране с уголовной преступностью сложилась крайне неблагоприятная. Гражданские суды не успевали пропускать огромное количество уголовных дел, и по приказу Ежова стали работать милицейские тройки. При этом даже за самые тяжкие уголовные преступления милицейская тройка не имела права осудить преступника более чем на 5 лет. В работе именно таких милицейских троек и принимал участие автор, по мнению которого, многие опасные уголовные преступники получали слишком мягкие наказания.
Радзивиловский недовольно поморщился и, взяв у меня из рук дело Луговского, сказал:
— Рекомендую тебе, Михаил Павлович, поменьше доверять разным твоим дружкам. И так уже подозрительна твоя дружба с троцкистом Ковалевым. (Ковалев тогда еще был вторым секретарем обкома.)
На мой вопросительный взгляд Радзивиловский сказал:
— Что ты так удивленно смотришь? Я не оговорился. Ты еще и не такие вещи узнаешь. Я, конечно, верю, что ты тут ни при чем, но ряд товарищей в этом не уверены.
Не прошло и трех часов, как раздался звонок Радзивиловского, который попросил меня зайти к нему. Когда я вошел в кабинет, рядом с ним в торжествующей позе стояли начальник СПО Юревич и его помощник Викторов, неофициально выполняющий обязанности заместителя начальника УНКВД.
— Вот, возьми, полюбуйся, — протянул мне Радзивиловский протокол допроса Луговского.
Я быстро пробежал глазами протокол. Насколько мне помнится, там было сказано, что Луговской признает себя виновным в том, что он является членом правотроцкистской организации, а затем был приведен ряд фамилий членов партийного актива области, как якобы состоящих в организации вместе с ним, Луговским.
— По-видимому, я плохой следователь, — сказал я Радзивиловскому и вышел из кабинета совершенно раз битый и обескураженный.
На следующий день мне пришлось вместе с Ковалевым ехать на дачу в Ломы. Охранявший его работник НКВД сидел рядом с шофером, а я с Ковалевым на заднем сиденье.
Будучи глубоко уверен в невиновности Ковалева и чувствуя к нему расположение, я нарушил свой служебный долг и вполголоса сказал ему:
Леонид Иванович, вы видите, какая сейчас создалась обстановка? Вам бы следовало написать письмо в ЦК Сталину и Ежову, чтобы оградить себя от возможных провокаций. Больше я, к сожалению, ничего не могу вам сказать, так как далек от следственных дел, но вижу, что вокруг вас сгущаются тучи.
Я и сам чувствую какое-то недоверие к себе со стороны окружающих и обязательно воспользуюсь вашим советом и сегодня же ночью напишу письмо в ЦК. Но заверяю вас, что бы со мною ни случилось, верьте мне, что я преданный коммунист и готов отдать жизнь за Сталина.
Подъехав к дачному месту, мы расстались.
На другое утро в УНКВД было обычное оперативное совещание в кабинете Радзивиловского, на котором я обязан был присутствовать.
Начальник СПО Юревич доложил, что ночью арестованы секретарь обкома Ковалев и ряд других работников и у Ковалева при аресте обнаружено незаконченное письмо в ЦК на имя Ежова.
— Этот подлец Ковалев хотел разжалобить Ежова, — с издевкой иронизировал Юревич. — Письмо подтверждает, что он активный троцкист и враг народа.
Я весь похолодел и с этой минуты стал ждать ареста, так как был уверен, что у Ковалева, физически довольно слабого и болезненного человека, пытками могут вынудить дать показания на других сослуживцев и на меня, как на одного из наиболее близких товарищей и почитателей Ковалева в Иванове.
До сих пор я так и не знаю, чем объяснить, что Ковалев, после тяжелых пыток оговоривший себя, оговоривший группу работников комсомола во главе с секретарем обкома комсомола Зиной Адмиральской и ряд других товарищей, обо мне не сказал ничего. А может быть, он и сказал, но по неизвестным для меня причинам этим показаниям тогда не был дан ход?
Тем временем в Иванове образовалась какая-то мясорубка. Путем страшных избиений и пыток, проводившихся изощренными садистами Юревичем, Саламатиным, Викторовым и Рядновым, арестованных коммунистов заставляли «признаваться» в несовершенных преступлениях. Под пытками они оговаривали себя, товарищей, сослуживцев, фамилии которых им заранее подсказывались. Таким образом, количество арестованных и подлежащих расстрелу лиц все увеличивалось и увеличивалось, и «особой тройке» приходилось «работать» чуть ли не круглосуточно.
Радзивиловский в Иванове лично не участвовал в избиениях и пытках при допросах. Как-то я присутствовал при его разговоре с Викторовым и Рядновым, когда они просили его принять участие в чьем-то допросе, на что Радзивиловский в категорической форме возразил:
— Что же это, я буду еще за вас работать? Нет, это ваше дело.
Не сомневаюсь, что в Москве, находясь в подчиненном положении у Реденса, Радзивиловский должен был принимать участие в допросах и, видимо, благодаря своим способностям в этом направлении и сделал такую «блестящую карьеру». Но в Иванове, пользуясь своим правом высшего начальника, он уже не хотел заниматься этим «грязным делом».
Все чаще и чаще Симочкин и Марчук на «тройках» не присутствовали, и тем самым особая «тройка», по существу, превратилась в «единого бога» Радзивиловского, который звонил Симочкину по телефону и ставил его в известность, что он сам рассмотрит дела на таких-то и таких-то лиц, а затем даст Симочкину и Марчуку на подпись. И оба они с готовностью соглашались, даже не пытаясь возражать, настолько непререкаемы были авторитет и сила власти, которой был наделен Радзивиловский как начальник УНКВД.
Вспоминаю первый в тот период суд, проводимый выезжавшей в Иваново Военной коллегий Верховного суда СССР над группой обкомовских и облисполкомовских работников во главе с бывшим председателем облисполкома
Агеевым (привезенным по окончании следствия из Москвы), вторым секретарем обкома Ковалевым и третьим секретарем Епанишниковым. В этой группе были также редактор газеты «Рабочий край» Ефанов, секретарь горкома Васильев и ряд других товарищей, фамилии которых за давностью уже не помню.
Председательствовал на суде Голяков, членом суда был Ждан, фамилии третьего члена суда не помню. Заседание суда проводилось в кабинете начальника пожарной охраны.
До суда всех подследственных крепко обрабатывали, уговаривая не отказываться от выбитых у них показаний, обещая за это сохранить им жизнь.
Следует отметить, что еще до начала судебного заседания в соседней комнате машинистка печатала под диктовку секретаря суда заранее определенные приговоры с одной только мерой наказания — расстрел.
На заседании Военной коллегии Верховного суда присутствовали только сотрудники НКВД. Почти все подсудимые подтвердили данные ими под пытками показания.
Хотя я имел право войти в помещение, где происходил суд, я не мог этого сделать — мне стыдно было смотреть в глаза подсудимым. Я стоял в соседней комнате — секретариате, откуда все было хорошо слышно. Особенно тяжело и горько было мне слышать, как глубокоуважаемый и любимый мною Леонид Иванович Ковалев признавал себя «виновным» в принадлежности к правотроцкистам, в организации комсомольской террористической группы и еще в каких-то страшных грехах.
Один Агеев категорически отказался от показаний на суде, заявив, что его пытали и что он подписал показания под пытками и ни в чем себя виновным не признает. И когда в конце заседания были оглашены приговоры, одинаковые для всех подсудимых — расстрел, Агеев не растерялся и крикнул:
— Да здравствует коммунизм! Да здравствует Сталин! Остальные были настолько подавлены и ошеломлены, что не могли вымолвить ни слова.
Когда суд удалился и осужденных увели, я услышал, как Радзивиловский вполголоса давал распоряжения своему помощнику Викторову:
— Чтобы не было бузы, раздай им по четвертушке бумаги. Пусть пишут заявления Калинину о помиловании.
Этим ты их успокоишь, а затем... везите. Объяви, что везете в тюрьму.
Через два или три часа я узнал от одного из сотрудников, сопровождавших эту группу осужденных на расстрел, что приговор уже приведен в исполнение. Причем он рассказывал, что, когда закрытая автомашина прибыла к месту расстрела, всех осужденных вытаскивали из машин чуть ли не в бессознательном состоянии. По дороге они были одурманены и почти отравлены выхлопными газами, специально отведенными по спецпроводу в закрытый кузов грузовика.
От этого же сотрудника я узнал, что Агеев, придя в себя, перед расстрелом сказал:
— Вы хотите знать мое предсмертное сказанье: это все ложь, ложь и ложь, от начала до конца.
Одним из самых ужасных злодеяний в период кровавой эпопеи Радзивиловского в Иванове следует признать провокационное дело группы комсомольцев во главе с первым секретарем обкома комсомола, членом ЦК ВЛКСМ, бывшей ленинградской ткачихой Зинаидой Адмиральской.
Началось это липовое дело с того, что у некоторых арестованных работников обкома и горкома комсомола путем пыток добивались показаний, что они были завербованы секретарем обкома партии Ковалевым в троцкистско-террористическую организацию, ставящую себе целью (как и все троцкистско-террористические организации того периода) убить вождей партии: Сталина, Ежова и др. Во главе этой террористической организации якобы стояла Зинаида Адмиральская. Затем, когда был арестован Ковалев, группа якобы завербованных им комсомольцев расширилась, кажется, до семидесяти пяти или восьмидесяти человек.
Участник следствия, чекист и мой земляк Клебанский рассказывал, что Зина Адмиральская, несмотря на неслыханные пытки и издевательства, никаких клеветнических показаний ни на себя, ни на других товарищей не подписала. На специально устраиваемых очных ставках, где ее «изобличали», Адмиральская мужественно отвергала все обвинения и уговаривала избитых и измученных товарищей, которым уже все было безразлично, не поддаваться провокациям и отвергать все ложные обвинения.
Со слов Клебанского, особенно издевались над Адмиральской работники СПО Волков и Нарейко — ивановские доморощенные садисты, выраставшие под «идейным руководством» Радзивиловского (оба со страшной силой проявили себя впоследствии).
Над группой комсомольцев также был устроен суд Военной коллегии Верховного суда, приехавшей из Москвы. Председателем суда был Матулевич.
Проходя мимо комнаты, где должен был происходить суд, я увидел в коридоре сидевшую на стуле под охраной какого-то следователя Зину Адмиральскую. (Весь период совместной работы в Иванове у меня с Адмиральской были дружеские отношения.)
— Зина, в чем тебя обвиняют? — спросил я, подойдя к ней.
— Сейчас уже дело прошлое, — грустно улыбнувшись, ответила она. — Я знаю, меня расстреляют. Но я ни в чем не виновата. Вы, Михаил Павлович, конечно, мне не верите, ведь на меня дали показания чуть ли не восемнадцать товарищей. Но я их не обвиняю — не все могут выдержать пытки.
— А ты, Зина?
— Умру, но никогда не стану клеветать ни на себя, ни на других.
На меня этот разговор произвел потрясающее впечатление. Я знал Адмиральскую как честнейшего и преданнейшего делу коммунизма человека. Я был убежден, что она действительно ни в чем не виновата.
Чуть ли не с истерикой я ворвался в кабинет к Радзивиловскому и рассказал ему про мой разговор с Адмиральской.
Зину я знаю давно, так же как знаю и большинство других арестованных комсомольцев. Неужели ты допустишь, чтобы их расстреляли? Ведь это же страшное преступление!
— Что ты психуешь? — спокойно, с иронической усмешкой ответил мне Радзивиловский. — Ведь я не суд. Может быть, суд их оправдает. Нечего лезть поперед батьки в пекло.
Затем он совсем другим тоном и даже с ноткой угрозы добавил:
— И вообще, Михаил Павлович, я тебе по-дружески советую: не вмешивайся и не лезь туда, куда не следует.
Совершенно разбитый, с тяжелым сердцем, я пошел в свой кабинет на работу. На этом суде я не мог присутствовать даже в соседней комнате.
На другой день я узнал от работника, видевшего Адмиральскую в последние минуты жизни, что Зина до конца сохранила полное самообладание и перед расстрелом попросила у кого-то из работников охраны зеркальце, чтобы поправить волосы.
Я помню всего три судебных заседания: два закрытых — в УНКВД над работниками обкома, облисполкома и одно открытое — над «отравителями и немецкими шпионами» из «Союзхлеба», организованных, видимо, специально для создания некой видимости «законности». Больше уже до моего отъезда из Иванова (то есть до января 1938 года) «врагов народа» в судебном порядке не судили.
В дальнейшем массовые аресты и расстрелы проводились через внесудебную «тройку», состоящую, как я уже упоминал, из начальника УНКВД Радзивиловского (председатель) и членов: первого секретаря обкома Симочкина и председателя облисполкома Марчука. Нужно сказать, что Марчук всеми силами старался как можно меньше принимать участие во всех этих кровавых делах, избегал присутствовать на «тройке» и тем более на процедуре приведения в исполнение приговоров.
Первый же секретарь обкома Симочкин был настолько ослеплен и напичкан указаниями Кагановича, что считал своей священной обязанностью всемерно способствовать уничтожению «врагов народа» и в качестве добровольца присутствовал на всех расстрелах партийных работников. Симочкин был потомственным рабочим и, надо полагать, преданным партии большевиком, но, будучи не очень умным и малограмотным, он не мог разобраться в том, что происходило вокруг, и слепо верил, что все делается правильно. Однажды он спросил у меня:
— Почему это все присутствуют на приведении в исполнение приговоров над врагами народа, а вас никогда не видно?
Я ответил ему, что у каждого своя работа и что расстрелы «врагов народа» не входят в функции милиции, и что я должен заниматься борьбой с уголовными преступниками.
С подобной же претензией ко мне обратился Радзивиловский:
— Почему это ты не бываешь, когда расстреливают твоих бандитов?
Я считаю, что это не театр и для исполнения приговоров имеются специальные кадры. Мое же дело ловить бандитов, — резко и решительно ответил я, чтобы избежать в дальнейшем подобных разговоров.
Как я уже упоминал, у нас с Радзивиловским отношения становились все более и более прохладными. Мы совершенно не понимали друг друга. И он больше не старался привлечь меня к какому-либо участию в кровавых делах УНКВД.
В связи с большим рвением, проявляемым Симочкиным в части «искоренения крамолы», однажды произошел трагикомический случай. Дело в том, что Симочкин с энтузиазмом, достойным лучшего применения, всячески пытался «помочь» Радзивиловскому в разоблачении и уничтожении «врагов народа». Он все время держал с Радзивиловским связь, ежедневно по нескольку раз звонил ему по телефону, чтобы узнать, как идут дела. Радзивиловский же, в свою очередь, как только из очередных жертв «выбивались» показания на следующих кандидатов на арест, посылал секретные донесения об этих показаниях Симочкину.
И вот на одном из расширенных заседаний облисполкома, где присутствовал и я как член президиума облисполкома, Симочкин выступил и заявил присутствующим:
Вот, товарищи, вы даже сами не подозреваете, как много вокруг нас «врагов народа». Они все время маскируются, и нам надо быть особенно бдительными. Еще вчера утром были среди нас, а вечером сознались и дали показания «враги народа» начальник Главтекстиля Кис-ельников и председатель горсовета Корнилов.
— Это ложь! — поднявшись с места, громко крикнул Кисельников.
— Позвольте! Ка-ак же та-ак? Я здесь! — заикаясь выкрикнул и Корнилов.
Произошло всеобщее замешательство.
Оказалось, что Симочкин по малограмотности не разобрался в донесении, в котором сообщалось, что кто-то из подследственных дал показания на Кисельникова и Корнилова, а Симочкин вообразил, что они уже арестованы и признались. Симочкину пришлось извиниться, сказав, что, видимо, произошла ошибка и он перепутал фамилии. Но тем не менее при выходе с собрания Кисельников и Корнилов были арестованы.
Быстро израсходовав данный ему Ежовым лимит на 1500 человек, Радзивиловский возбудил перед Москвой ходатайство об увеличении лимита. Его просьба немедленно была удовлетворена.
Возвратившись из командировки в Москву, Радзивиловский хвастливо рассказывал, как о каком-либо боевом подвиге, что Ежов и Фриновский всячески расхваливали его за проявленное рвение в борьбе с «врагами народа».
Не помню уже, когда именно, но примерно в тот период я столкнулся в Иванове на улице с работником Военной прокуратуры СССР Сергеем Холодновым, знакомым мне еще по совместной работе в 1920 году в Ржеве.
Увидев друг друга, мы были очень обрадованы, обнялись, расцеловались. Я стал спрашивать его, что он делает в Иванове. Холодное сразу переменился в лице и с грустной усмешкой сказал:
— Да вот приехал по жалобе, проверять, как подчиненные Радзивиловского ведут следствие.
— Ну и что ты обнаружил? — спросил я.
— Что обнаружил? — внимательно вглядываясь в мое лицо, сказал он. — Жалобы подтвердились полностью. И бьют, и пытают...
— Доложишь об этом в Москве?
— Нет, Михаил, не доложу... Один у нас уже докладывал...
И он рассказал, как один из работников прокуратуры выезжал куда-то на периферию для проверки жалоб об избиениях. И, возвратившись в Москву, доложил главному военному прокурору о том, что жалобы полностью подтверждаются. Его начальник направил материал о проверке в высшую инстанцию, в ответ получил «головомойку», а проверяющий прокурор бесследно исчез: т. е. немедленно был арестован и расстрелян, видимо, как тормозящий борьбу с «врагами народа».
— Напишу, что обнаружил некоторые незначительные недостатки в порядке ведения следствия, — закончил свой невеселый рассказ Холодное. — А на основании моего рапорта Радзивиловскому укажут на эти «некоторые незначительные недостатки», вот и все.
Затем Холодное рассказал, что Радзивиловский все время приглашает его на обеды и ужины с обильной выпивкой и прикомандировал к нему Саламатина, чтобы составить ему компанию по части выпивки.
— И знаешь, Саламатина перепить невозможно. Это какая-то прорва! — закончил он.
На этом мы расстались.
(Возвратившись после Отечественной войны в Москву и работая в тресте Мосгортопснаба, я где-то в районе гостиницы «Балчуг» снова встретил Сергея Холоднова в чине полковника, который продолжал работать в прокуратуре. Он затащил меня в ресторан, мы с ним там выпили, и он, махнув рукой, сказал, что теперь очень часто пьет, так как работа беспросветная и неприятная. Вскоре он умер.)
Однажды в воскресный день на даче в Ломах (кажется, в начале ноября 1937 года), когда Радзивиловский находился в командировке в Москве, «главный палач» его банды Саламатин, сильно выпив, начал приставать ко мне и, встав за моею спиной, стал в упор глядеть мне в затылок. Когда же я потребовал, чтобы он оставил меня в покое, он с мрачной угрозой заявил:
— Вот посмотрим, как ты будешь себя вести, когда я тебя буду расстреливать.
— Прежде чем меня расстреляют, я сам пристрелю тебя как собаку! — вне себя крикнул я.
Викторов и Ряднов схватили Саламатина под руки и уволокли в соседнее помещение.
Я тут же уехал из Ломов в Иваново, позвонил в Москву В.В. Чернышеву, рассказал об этом безобразном эпизоде и попросил, чтобы меня забрали из Иванова и перевели куда-либо в другое место, тем более что работа по линии милиции здесь уже хорошо налажена.
Чернышев пообещал выполнить мою просьбу, а я в дополнение к телефонному разговору направил в Москву соответствующий рапорт.
Не помню, через сколько времени, но чуть ли не в тот же вечер в моей квартире раздался звонок. (Жена с детьми гостила в Москве у матери, и я был дома один.) Когда я открыл дверь, то увидел на пороге Викторова, Ряднова и Саламатина. Последний, ни слова не говоря, рухнул передо мной на колени, заплакал и начал целовать мои сапоги, сбивчиво и невразумительно что-то бормоча и прося, чтобы я его простил.
Эта нелепая сцена была достойна палаты сумасшедшего дома, и, чтобы прекратить ее, я сказал, что прощаю его, лишь бы только он поскорее убирался к чертовой матери.
Когда Радзивиловский, возвратившись из Москвы, узнал об этом случае, он вторично заставил Саламатина просить у меня прощения в его присутствии, что тот с готовностью выполнил и при этом пытался выкручиваться и симулировать сумасшествие, говоря, что он тогда, в Ломах, был настолько пьян, что не помнил, что говорил, и вообще на него такие периоды нападают. Радзивиловский пригрозил ему, что при повторении подобных случаев уволит его с работы и отдаст под суд, а пока что распорядился не допускать его к работе 15 суток.
(Недавно, в письме от января 1974 года, бывший начальник санчасти управления милиции в Иванове доктор Дунаев, проживающий в Минске на пенсии, напомнил мне, что в 1937 году ему предлагали осмотреть Саламатина на предмет определения его психического состояния. Дунаев вспоминает, что Саламатин все время говорил, что боится Шрейдера, «который приедет на белом коне и его расстреляет». Дунаев направил его на осмотр к психиатру. Но, видимо, психиатр его больным все же не признал, так как он, отбыв 15 суток ареста, снова стал «работать».
Тем не менее я считаю, что тогда он явно был полусумасшедшим садистом и палачом, и, кроме всего прочего, набитым дураком. Но все это не помешало Ежову назначить Саламатина впоследствии начальником управления НКВД Мордовии. И до ареста, последовавшего, видимо, совместно с арестом Радзивиловского в ноябре 1938 года, он уже успел понатешиться над многими и многими невинными людьми в Мордовии.)
Несмотря на все эти извинения Саламатина, в которых как бы косвенно принимали участие Викторов, Ряднов и даже Радзивиловский, все же этот инцидент дал мне основания предполагать, что на меня собирается какой-то провокационный материал. (Будущее подтвердило правильность моих предположений.)
В декабре 1937 года проводились выборы в Верховный Совет СССР. При выдвижении кандидатов в депутаты Верховного Совета были выдвинуты и «избраны» все начальники краевых и областных УНКВД, а также все наркомвнуделы республик. Вслед за этим при выборах в республиканские Советы «избирались» все заместители наркомвнуделов и начальников краевых и областных управлений НКВД.
Органы НКВД были уже совершенно оторваны от партии и подчинялись только Сталину и Ежову. А на местах роль первой скрипки играли не секретари обкомов, райкомов и другие ответственные работники (которые, видя исчезающих одного за другим товарищей, сами трепетали, со дня на день ожидая ареста), а начальники республиканских, краевых и областных управлений НКВД, молодые и «талантливые» фальсификаторы, инквизиторы и палачи, выдвиженцы Ежова, а позднее — Берии, росчерком пера которых мог быть уничтожен любой человек в стране.
В первых числах января 1938 года моя просьба о переводе была удовлетворена. Я получил уведомление о назначении на должность начальника областного управления милиции Новосибирской области, где до меня работал старый, заслуженный чекист, латыш Альтберг, в то время уже арестованный.
Семью я до поры до времени решил оставить в Москве, а сам отправился к новому месту службы.
Новосибирск
В Новосибирск я прибыл 21 января 1938 года. На вокзале меня встречали мой будущий заместитель Хайт и начальник уголовного розыска Карасик. Поначалу Хайт произвел на меня не очень благоприятное впечатление своей подхалимской манерой разговаривать. Я сразу же оборвал его, Хайт почувствовал, что взял неверный тон, и в дальнейшем держался более выдержанно и достойно. Карасик, напротив, сразу же расположил меня простотой в обращении и незаурядной оперативной хваткой.
Они рассказали мне, что в области очень тяжелое положение: количество грабежей с убийствами и краж неимоверно возросло. Следует отметить, что Новосибирск тогда являлся как бы центром, где скапливалось огромное количество уголовников, прибывавших сюда после отбытия сроков наказания в северных лагерях. Из Новосибирска они должны были разъезжаться в разные места, но на дорогу требовались деньги, и поэтому бандиты то и дело организовывали налеты, грабежи и убийства. Последние два-три месяца борьба с бандитизмом почти совершенно не велась, потому что по распоряжению начальника УНКВД Горбача все работники угрозыска, а также и других отделов милиции были заняты на операциях по линии НКВД.
Карасик конфиденциально добавил, что он и другие работники угрозыска неоднократно принимали участие в приведении в исполнение смертных приговоров, выносимых особой «тройкой» под председательством Горбача. Ежедневно десятки, а иногда и сотни заключенных вызывались из камер будто бы помыться, раздевались в предбаннике, а когда входили в «баню» — их тут же расстреливали.
В момент моего приезда в Новосибирск Горбач был в Москве на сессии Верховного Совета. Поэтому я обратился к его заместителю Мальцеву и потребовал немедленно освободить от работы в управлении госбезопасности работников милиции, которые используются не по назначению. Причем намекнул, что мне известно о «работе» моих подчиненных в «бане».
Мальцев заявил, что не может ничего сделать, поскольку он только заместитель и не вправе отменять распоряжения начальника.
Если вы не можете освободить моих работников, то я, как заместитель начальника УНКВД по милиции, сам сегодня же издам приказ, запрещающий работникам милиции отвлекаться от своих прямых обязанностей.
Смотрите, — с угрозой в голосе предупредил Мальцев, — вы можете оказаться в очень тяжелом и неприятном положении за свое самоуправство.
На этом наш разговор закончился, и я тут же составил и подписал приказ, предлагающий всем работникам милиции Новосибирской области впредь заниматься только своими прямыми обязанностями.
Аналогичное положение оказалось и с транспортом. Когда я хотел вызвать автомашину для поездки куда-то, мне заявили, что все бывшие милицейские машины по. распоряжению Горбача теперь обслуживают только работников госбезопасности. Я позвонил заведующему отделом связи и сказал ему, что, если через пять минут машина не будет у моего подъезда, я издам приказ о его аресте за саботаж в работе милиции.
Мне немедленно выслали машину. Но я все же издал приказ о запрещении использования милицейских машин не по назначению.
Освободившись от выполнения заданий НКВД, работники милиции сразу же переключились на операции по изоляции многочисленных уголовных элементов, и вскоре, буквально через несколько дней, мы уже почувствовали изменения к лучшему в борьбе с преступностью.
Новосибирское областное управление милиции размещалось в большом пятиэтажном здании. В подвале была тюрьма, еще до моего приезда переполненная арестованными, делами которых долгое время никто не занимался. На третий день после начала работы я решил спуститься в подвал и посмотреть, что там делается. Войдя в подвал, я был потрясен немыслимой и никогда не виданной мною теснотой. Камеры представляли собой сплошной муравейник, до отказа набитый человеческими телами. О санитарии и гигиене в таких условиях, конечно, нечего было и думать, грязь была страшная, воздух — невыносимый.
Вместе с помощником областного прокурора и оперативниками милиции мы прежде всего в целях разгрузки тюрьмы занялись проверкой дел арестованных, среди которых оказалось много рабочих и служащих, арестованных за мелкие проступки и давно подлежащих освобождению, что и было немедленно сделано.
Одновременно мы ускорили работу милицейской тройки и участили заседания (за 20 дней моего пребывания в Новосибирске было проведено 5 или 6 заседаний) для разбора дел настоящих преступников. Конечно, возможно, что в спешке многие матерые бандиты осуждались на значительно меньшие сроки, чем они того заслуживали, так как для детального расследования времени не было.
Активно включился в работу в этот период приехавший из Иванова (он был переведен в Новосибирск по личной просьбе) Зуев, которого я назначил заместителем начальника уголовного розыска.
Через неделю после моего приезда в Новосибирск мне позвонила по телефону жена Анатолия Данцигера — моего старого товарища по ячейке комсомола в Москве, сообщила, что два месяца тому назад Анатолия арестовали, и просила помощи.
Мне нечем было ее утешить. Я уже Прекрасно знал, что помочь в таком деле никто не может. Все же я позвонил Мальцеву и спросил у него, за что арестовали Данцигера (работавшего в Новосибирске начальником оперативного отдела), и сказал, что хорошо знаю его по комсомольской ячейке ВЧК.
— Вы здесь человек новый и не в курсе дел, — сухо ответил Мальцев — Данцигер арестован по распоряжению Москвы как крупный шпион и террорист. До назначения в Новосибирск он работал в комендатуре Кремля и подготовлял террористический акт против руководителей партии.
Я выразил сомнение в правдоподобности такого обвинения и сказал Мальцеву, что Данцигер был одним из первых комсомольцев-чекистов, по призыву ВЛКСМ добровольно ушедших во флот, и что он честный и хороший парень.
— С таким знакомством не могу вас поздравить, — заключил наш разговор Мальцев.
Когда через несколько дней в Новосибирск из Москвы вернулся Горбач, он вызвал меня к себе для объяснения по поводу моих действий. Я доложил Горбачу о тяжелом положении в области с уголовной преступностью, в связи с чем я счел необходимым использовать работников милиции только по прямому назначению.
— Бросьте возиться с вашей шпаной, — с раздражением сказал Горбач. - Сейчас основная задача всех работников управления НКВД — выкорчевывать врагов на рода. Я имею такую установку лично от Николая Ивановича Ежова.
— Я также имею установку от Ежова и Чернышева — усилить борьбу с уголовной преступностью в Новосибирске и поэтому не считаю возможным отменять свое распоряжение, — возразил я.
Тогда Горбач начал говорить со мной в повышенном, хамском тоне. Я попытался осадить его и сказал, что я прошу на меня не кричать, что я не арестованный и так же, как и он, назначен на свою должность решением ЦК партии.
— Бросьте носиться со своим назначением, — буркнул Горбач, а затем многозначительно отчеканил: — Я имею указание от Михаила Петровича Фриновского очистить область от врагов народа и особенно от врагов, пробравшихся в НКВД.
Произнося последние слова, он бросил на меня неприязненный взгляд и заявил, что, поскольку мои действия тормозят борьбу с врагами народа, они будут соответственно оцениваться.
— Что касается меня, то у вас руки коротки! — резко бросил я и, не желая больше слушать его угрозы, вышел.
Немедленно связавшись по телефону с Москвой, я доложил начальнику ГУРКМ Чернышеву о невозможной обстановке для работы в Новосибирске. Но Чернышев, видимо, сам был напуган создавшимся положением, поэтому ничего членораздельного мне не сказал и не посоветовал, а только предупредил:
— Учтите, что Горбач пользуется большим авторитетом у Ежова и является близким человеком Фриновского.
Больше к Горбачу я не ходил и продолжал начатую мною борьбу с уголовщиной. Руководство УНКВД на каждом шагу ставило мне «палки в колеса». То они снова забирали мои оперативные машины, то прекращали снабжать пайками работников милиции, то еще в чем-либо ущемляли интересы милиции. Но я не реагировал на эти выпады и продолжал с максимальной интенсивностью использовать весь милицейский аппарат в борьбе с бандитизмом и уголовщиной.
В один из этих дней я узнал, что в Новосибирске проездом остановился на 1 — 2 дня следующий в отдельном вагоне до станции Тайга Лев Николаевич Вельский. (Л. Н. Вельский был тогда заместителем наркомпути и одновременно замнаркомвнуделом.) Я очень обрадовался случаю повидаться с ним и немедленно отправился на станцию. Л. Н. Вельского сопровождал мой старый друг Адам Сергеевич Неверное. Оба радушно меня встретили, и мы вместе пообедали в вагоне.
Рассказав Вельскому о создавшейся в Новосибирске обстановке и о моем конфликте с Горбачом, я попросил у него совета.
— Конечно, я могу сейчас позвонить и накрутить хвост Горбачу... — выслушав меня, сказал Вельский. — Но вряд ли это даст положительный результат. Скорее — будет только оттяжкой на две-три недели, месяц... Москва начнет нажимать, и Горбач опять потребует от тебя людей... Ты ему, конечно, откажешь. Начнутся скандалы, которые могут закончиться для тебя трагически. Ты ведь должен понимать, в какое время мы живем... Горбач не только депутат Верховного Совета, но, кроме того, его поддерживают и Ежов, и Фриновский. Ему ничего не будет стоить расправиться с тобой. Ничего не поделаешь... Сейчас такой курс... — и Лев Николаевич грустно улыбнулся.
Расстался я с Вельским и Неверновым очень расстроенный. Кстати сказать, это была моя последняя встреча с ними обоими*1.
_____
*1. Л.Н. Вельский осенью 1938 года был арестован и вскоре расстрелян. А. С. Неверное умер после войны своей смертью.
Несмотря на плохое настроение, оставшееся после разговора с Вельским, я все же продолжал интенсивную работу по разгрузке тюрьмы и очищению Новосибирска от преступных элементов.
Постепенно я узнавал от своих подчиненных все новые и новые подробности о черных делах, творимых работниками Новосибирского УНКВД. В частности, о том, что Горбач распорядился арестовать и расстрелять как немецких шпионов чуть ли не всех бывших солдат и офицеров, которые в первую мировую войну находились в плену в Германии (а их в огромной в то время Новосибирской области насчитывалось около 25 тысяч). О страшных пытках и избиениях, которым подвергались арестованные во время следствия. Мне также рассказали, что бывший областной прокурор, который прибыл в УНКВД для проверки дел, был тут же арестован и покончил с собой, выпрыгнув в окно с пятого этажа. (Этот прокурор, фамилию которого я, к сожалению, забыл, пользовался поддержкой Вышинского. К 20-летию органов прокуратуры он был награжден орденом. Хорошо зная его как исключительно честного и преданного коммуниста, Вышинский тем не менее санкционировал его арест.)
Узнав обо всем этом, я был потрясен и подавлен. Очень скоро я убедился, что кровавая эпопея в Новосибирске затмила ивановские дела.
Никто не понимал, во имя чего все это делалось, но каждый боялся высказывать сомнения, так как подобное высказывание неминуемо навлекало подозрение в пособничестве или сообщничестве с «врагами народа».
В один из дней Горбач созвал совещание оперативного состава, на котором я должен был присутствовать, но я послал туда своего заместителя Хайта, от которого потом узнал, что Горбач во всеуслышание обозвал меня «барином».
В конце третьей недели моего пребывания в Новосибирске мне позвонила Людмила Андреевна Невская — жена моего старого товарища и пригласила к ним вечером на ужин. Я с удовольствием принял приглашение, чтобы хоть немного отвлечься и побыть с друзьями.
Людмила, как всегда, была гостеприимной и веселой хозяйкой и вспоминала о наших беззаботных и веселых субботних вечерах в Иванове в счастливые 1934 — 35 годы. Но Александр Павлович Невский, как я сразу заметил, был чем-то обеспокоен, сумрачен и сдержан. Под конец вечера, отведя меня в сторону, он рассказал, что днем на совещании работников УГБ Горбач заявил: «Вот к нам прибыл новый начальник милиции, который в прошлом был тесно связан с врагом народа Данцигером. — После чего добавил: — Думаю, к этой фигуре надо хорошенько присмотреться».
С тяжелым сердцем прощался я в тот вечер с Невским. Мы с Александром Павловичем знали друг друга многие годы, постоянно контактировали не только по работе, но были близко знакомы семьями, и тем не менее я ясно чувствовал, что в тот вечер он жалел, что Людмила пригласила меня. Это было то страшное время, когда каждый, боясь за себя, старался быть подальше от всякого, кто хоть в малейшей степени мог подпасть под подозрение. Невский, как начальник транспортного отдела, безусловно, был хорошо знаком с «кухней», на которой фабриковались «враги народа», и знал, что одной фразы, произнесенной Горбачом, могло оказаться достаточно, чтобы над моей головой сгустились самые черные тучи. А за мною ниточка могла потянуться и к нему как к старому знакомому.
Распрощавшись с Невским (Александра Павловича в тот вечер я видел в последний раз, летом 1938 года он был арестован и вскоре расстрелян), я отправился к себе в кабинет, связался по телефону с Чернышевым, доложил ему о высказываниях Горбача на оперативном совещании по моему адресу и сказал, что не считаю возможным при таких обстоятельствах продолжать работу в Новосибирске.
Чернышев уговаривал меня не нервничать и спокойно продолжать работать, но я настаивал на том, что в такой обстановке работать не могу. Разговор наш ни к чему не привел, и мы прекратили его, оставшись каждый при своем мнении.
На следующий день я написал приказ по областному управлению милиции примерно следующего содержания:
«В связи с моим выездом по делам службы, с докладом в Москву, оставляю своего заместителя тов. Хайта исполняющим обязанности начальника областного управления милиции.
Приказываю: ни одного работника уголовного розыска и милиции не отвлекать от своих прямых обязанностей и не разрешать использовать их на другой работе.
Начальник Новосибирского областного управления милиции (Шрейдер)».
После этого я выехал в Москву.
Прибыв в Москву 18 или 19 февраля 1938 года, я заехал домой и предупредил жену, что уехал из Новосибирска самовольно и поэтому не знаю, что меня ожидает — возможно даже, арест.
Затем я направился к начальнику Главного управления милиции СССР Чернышеву, которому доложил, что не могу больше продолжать работу в Новосибирске и готов понести за свой отказ любое наказание, которое он найдет нужным применить в отношении меня.
Далее я подробно доложил об обстановке в Новосибирске, о положении дел в милиции и о принятых мною мерах, а также о творящихся там в УНКВД беззакониях: об арестах и расстрелах по распоряжению Горбача бывших русских солдат и офицеров, попавших в плен во время империалистической войны, которые якобы признавались, что являются немецкими шпионами, об избиениях, пытках, расстрелах в «бане» и т.п. Естественно, что я уведомил Чернышева, что знаю обо всем этом со слов моих подчиненных сотрудников, принимавших участие в ряде операций.
— Василий Васильевич, — сказал я Чернышеву. — У меня никогда не дрогнет рука в борьбе с настоящими врагами народа, но я чекист и не верю, чтобы двадцать пять тысяч русских солдат и офицеров оказались шпионами. Со слов моего начальника угрозыска Карасика, который имел некоторое отношение к следствию по этой группе, среди арестованных солдат и офицеров бывшей царской армии было много участников гражданской войны, боровшихся против Колчака, а также много партизан, воевавших на стороне Красной Армии.
Закончил я свой рассказ утверждением, что считаю Горбача фальсификатором и провокатором, который вводит в заблуждение Ежова и Фриновского, пользуясь хорошим к нему отношением с их стороны.
Василий Васильевич, выслушав меня, сказал, что обо всем доложит Ежову и, вероятно, мне придется потом самому подтвердить все рассказанное Николаю Ивановичу.
На следующий день я опять пришел к Чернышеву, который сказал мне, что Ежов принять меня не имеет времени, но что он возмущен действиями Горбача и приказал отозвать меня из Новосибирска и дать мне другую работу. Затем он показал мне копию телеграммы за подписью Ежова, посланной Горбачу, в которой ему ставилось на вид нетактичное поведение в отношении своего заместителя по милиции и он предупреждался, что нового начальника милиции ему не пошлют и впредь обязанности начальника милиции и вся ответственность за эту работу полностью возлагаются лично на него.
Тогда я верил, что Чернышев доложил Ежову не только о нетактичном отношении Горбача ко мне и об использовании работников милиции не по назначению, но и о творящихся в Новосибирске незаконных арестах и расстрелах и что по последнему вопросу Ежов будет принимать какие-либо меры. Но теперь думаю, что Василий Васильевич, гораздо лучше меня разбиравшийся в обстановке, царящей в то время в верхах, а также хорошо ко мне относящийся, наверное, воздержался от передачи Ежову моих настроений по поводу массовых расстрелов, которые в то время проводились повсеместно.
Через день Чернышев сообщил мне, что по распоряжению Ежова меня назначают заместителем наркома внутренних дел по милиции и начальником главного управления милиции Казахской ССР и что наркомвнудел Казахстана Реденс, которого запросили, дал согласие на мое назначение.
Я был приятно удивлен тем, что меня — единственного из начальников управлений милиции — назначили замнаркомвнуделом. Обычно во всех республиках начальники милиции были помощниками наркомов, а в областях помощниками начальников УНКВД. Я наивно думал, что Ежов хочет морально поддержать меня в связи с незаслуженно нанесенной мне Горбачом обидой.
Теперь я считаю, что, скорее всего, был обязан своим повышением в должности хорошему отношению ко мне В.В.Чернышева.
Успокоенный и окрыленный, с новым назначением в кармане, я на следующий день отправился обратно в Новосибирск, чтобы сняться там с партийного учета.
В Новосибирске я пробыл всего несколько часов, от поезда до поезда. Снялся в райкоме с партучета, а затем со своими (уже бывшими) заместителями и с начальником угрозыска мы хорошо пообедали на прощание в ресторане «Центральной» гостиницы.
Все поздравляли меня с повышением в должности и радовались, что мне удалось «одернуть и поставить на место» начальника УНКВД Горбача, который до моего приезда помыкал работниками милиции как хотел.
Хайт с юмором рассказывал, как Горбач, получив от Ежова выговор за нетактичное поведение в отношении начальника милиции и узнав, что я назначен в Казахскую ССР заместителем наркома, с яростью ругался по моему адресу, называя сволочью и призывая на мою голову всевозможные проклятия за то, что я посмел нажаловаться на него в Москве.
После обеда все присутствующие проводили меня на вокзал, где мы, пожелав друг другу всяческих благ и успеха в работе, распрощались, и я по новой, знаменитой тогда железнодорожной магистрали Турсиб направился прямым назначением через Семипалатинск в Алма-Ату.
Алма-Ата
Прибыв на станцию Алма-Ата, я зашел в транспортное отделение милиции и попросил соединить меня по телефону с наркомом внутренних дел Казахстана С.Ф.Реденсом. Узнав, что я приехал и сижу на вокзале, Станислав Францевич отругал меня за то, что я не дал телеграммы, и сказал, что сейчас же отправляет за мной машину. Через 10 — 15 минут за мной приехали знакомый мне по Иванову Викторов, незадолго до моего приезда получивший назначение на должность начальника 3-го отдела УГБ Казахской ССР, и секретарь Реденса Козин. Пока мы ехали с вокзала, для меня успели забронировать номер в единственной тогда в Алма-Ате гостинице, где я оставил чемодан и отправился к Реденсу.
Станислав Францевич был искренне рад моему приезду, держал себя со мною так же просто, как и прежде, когда я работал у него в 1933 году в Московской области — начальником 6-го отделения. Вглядываясь в его лицо, я радовался, видя его не изменившимся, и гнал от себя мысли о том, что это тот самый Реденс, под руководством которого Радзивиловский с компанией начинал свою страшную работу по уничтожению руководящих партийных и советских работников Москвы и области.
Поговорив с Реденсом, я отправился к начальнику главного управления милиции Казахской ССР Кролю, которого должен был сменить. Еще в Москве я узнал, что его снимали с работы как не справляющегося со своими обязанностями. С Кролем я не был знаком, но слышал о нем как о старом заслуженном большевике, члене партии с 1905 года.
Приехав в главное управление милиции, размещавшееся в трехэтажном старинном доме с какими-то темными лестницами и переходами, я был неприятно поражен запущенностью здания как снаружи, так и внутри. Коридоры и лестницы был заплеваны и замусорены, никаких вахтеров нигде я не встретил, кто угодно мог свободно ходить по всем комнатам и кабинетам управления. У входа в коридоре лежали несколько пьяных, спящих мертвым сном... Войдя в кабинет Кроля, я представился и вручил ему мои документы. Кроль оказался хилым человеком болезненного вида, видимо, очень добрым и душевным. Он выразил удивление и даже обиду, что я сразу с вокзала поехал к Реденсу и не известил его о приезде, чтобы он мог меня встретить.
Я оправдался тем, что Реденса давно знаю, а его, Кроля, не торопился огорчать, понимая, что не очень приятно оказаться в его положении — сдающего дела. Затем, чтобы развеселить его, я рассказал, что в 1919 году, пробираясь через границу из Вильно, занятого белополяками, я имел поручение к нему — Кролю — от виленского подпольщика, писателя Оршанского, но, получив в Утьянах от Эйдукевича другое задание, передал последнему все, что требовалось передать Кролю. И только вот теперь, через 19 лет, наконец увидел его — Кроля...
Мы поговорили с ним об общих знакомых, товарищах по 1919 году. Не помню, в тот же вечер или на другой день я заходил к нему домой, на улицу Фрунзе. Кроль был холостяком и жил в маленьком одноэтажном особнячке совершенно один. Какая-то пожилая женщина приходила к нему делать уборку и готовить, но тем не менее в домике был ужасный беспорядок и неприятный запах, так как Кроль держал в квартире трех кошек, которых очень любил.
Почувствовав ко мне расположение, Кроль сказал, что ожидает ареста, поскольку слышал, что на отозванного в Москву и, по имеющимся у него сведениям, уже арестованного там бывшего наркомвнудела Казахской ССР Залина собран большой компрометирующий материал, а он с Залиным проработал здесь довольно большой период. Я попытался разуверить его, но известие об аресте Залина, которого я знал с самой лучшей стороны, огорчило меня.
Дня через два Кроль должен был уезжать в Москву для получения нового назначения. В день его отъезда я собрал руководящий оперативный состав и обратился ко всем товарищам с просьбой — вместе со мною проводить заслуженного старого революционера, проработавшего здесь долгое время. Одновременно я приказал начальнику железнодорожной милиции выставить на перроне почетный караул на проводах Кроля. В результате собралось довольно много народа.
Старик, не ожидавший таких проводов, растроганно прощался с бывшими сослуживцами, а когда дошла очередь до меня, крепко расцеловался со мною и не мог сдержать слез.
В купе международного вагона, забронированное для Кроля, внесли его любимых кошек в каких-то корзинках или коробках, и поезд тронулся.
Узнав о проводах, устроенных мною Кролю, Реденс с неудовольствием заявил, что незачем было это делать. Видимо, он предвидел или точно знал о грозящем Кролю аресте.
Тем не менее я был доволен, что на прощание доставил старому большевику хоть несколько приятных минут. (Опасения, высказанные Кролем, оправдались. Вскоре после приезда в Москву он был арестован и, видимо, расстрелян или погиб где-нибудь в лагере.)
Чуть ли не на следующий день после моего прибытия в Алма-Ату Реденс повез меня представлять первому секретарю ЦК Казахстана Леону Исаевичу Мирзояну, председателю Совнаркома Исаеву и ряду других руководящих работников республики.
Я обратился к Мирзояну с просьбой помочь с кадрами, и, хотя он сначала огрызнулся, сказав, что «не обязан быть нянькой у милиции», все же ЦК Казахстана был мобилизован ряд членов партии и комсомольцев для укрепления органов милиции.
В Алма-Ате я встретил некоторых старых сослуживцев. Нашлись знакомые и среди моих подчиненных по линии милиции.
С большой радостью встретились мы в Алма-Ате с корреспондентом «Правды» Александром Дмитриевичем Козловым, с которым подружились еще в Иванове, где он был в том же амплуа. Козлов познакомил меня с корреспондентом «Известий» Семеновкером, и оба стали постоянными моими спутниками и гостями в свободные вечера и выходные дни — сначала в гостинице, а затем, когда приехала моя семья, в маленьком особнячке на улице Фрунзе.
Положение с уголовной преступностью в Казахстане было таким же тяжелым, как к моему приезду в Иванове или в Новосибирске. Как в управлении, так и на местах накопилось огромное количество нераскрытых дел по убийствам, вооруженным грабежам и квалифицированным кражам. Это тяжелое положение частично объяснялось тем, что на территории Казахстана находился огромный Карагандинский лагерь и такие же лагеря были расположены в граничащих с Казахстаном Новосибирской и Алтайской областях. В те годы уголовники довольно часто совершали массовые побеги, а поскольку в Алма-Ате в то время не было паспортного режима, большинство уголовного элемента оседали в столице Казахстана.
Как в свое время в Ивановской области, здесь сразу же пришлось принимать чрезвычайные меры. Для усиления работы милиции на всех крупных предприятиях республики начали активно создаваться группы ОСОДМИЛ, которые до этого существовали лишь на бумаге.
По договоренности с прокуратурой был максимально ускорен процесс следствия. Была произведена соответствующая перестановка кадров в уголовном розыске и в ОБХСС. На руководящие оперативные должности были выдвинуты способные молодые работники, а также началась повседневная работа по насаждению соответствующей агентуры, которой, как и к моменту моего приезда в Иваново, в Алма-Ате почти не было.
Аппарат милиции Казахстана был работоспособный, а наркомвнудел Реденс не отвлекал работников милиции на другие дела. Наоборот, помогал чем мог.
Через несколько дней после моего приезда начальник санотдела управления милиции Фролов (прекрасный врач, с большой любовью относящийся к своим обязанностям), докладывая о положении дел, пожаловался, что его подчиненная женщина-врач, член партии (фамилии не помню), наблюдающая за камерами предварительного заключения при главном, а также при всех городских отделениях милиции, несмотря на неоднократные его требования и предложения, бездельничает и не выполняет элементарных правил санитарии и гигиены. Я вызвал при Фролове этого врача, и мы все вместе отправились обследовать состояние тюрем. То, что представилось моим глазам, намного превосходило описания доктора Фролова. В камерах была неописуемая грязь, невыносимая вонь, у многих арестованных была чесотка, многие жаловались на боли в желудке, некоторые арестованные обовшивели и т.п. Аналогичное положение было и в других камерах предварительного заключения в пяти или шести городских отделениях милиции, которые мы в тот день осмотрели. Когда я начал распекать эту женщину-врача, спросив, как она, врач и член партии, могла допустить подобное безобразие, и пригрозил, что отдам ее под суд, она высокомерно заявила:
- Я переживаю здесь третьего начальника, и все были довольны моей работой. А вы хотите создать какой-то рай для «врагов народа» и преступников.
Это ваша работа скорее напоминает действия настоящего врага народа, — оборвал ее я и тут же поручил начальнику отдела кадров составить приказ об ее увольнении и о передаче материала в парторганизацию для разбора ее деятельности. (Проводилось ли это разбирательство, я не проследил, но с этой женщиной мне довелось позднее встретиться при совершенно иных обстоятельствах.)
Поскольку в Алма-Ате, как я уже упомянул, было огромное количество уголовников, ЦК и правительство Казахстана еще до моего приезда ходатайствовали перед ЦК и Совнаркомом СССР о необходимости введения в Алма-Ате паспортного режима. Однако решение этого вопроса затягивалось, и я, ознакомившись с положением дел, специальной докладной описал В. В. Чернышеву катастрофическое положение с преступностью и просил ускорить введение режима.
Вскоре после этого был получен приказ наркомвнудела о введении в Алма-Ате паспортного режима, ответственность за выполнение которого была возложена персонально на меня.
Не знаю, было ли известно инициаторам из ЦК и Совнаркома Казахстана о всех вытекающих из этой меры последствиях. Во всяком случае, я, поддерживая это ходатайство в своей докладной на имя Чернышева, имел в виду очищение города от уголовных элементов. Но оказалось, что большая половина лиц, подлежащих высылке, относилась не к уголовникам, а, увы, к местным специалистам и интеллигенции. Дело в том, что в 1926 — 27 годах и в более позднее время в Алма-Ату высылали ученых, инженеров, врачей, агрономов и других специалистов, в прошлом судимых на небольшие сроки (3 — 5 лет) или сосланных на поселение. Почти у всех из них эти сроки давным-давно истекли, но теперь, с вводом паспортного режима, по нелепому указанию свыше требовалось снимать их с насиженных мест и выселять в районные центры.
От этого непродуманного мероприятия страдала вся республика, так как ее столица теряла наиболее видных ученых, город лишался знаменитых профессоров и врачей, прекрасных инженеров-строителей, многие из которых давно были зачислены в штат НКВД или в штаты руководящих органов республики.
Однако делать было нечего. Теперь все мы были обязаны выполнять приказ ЦК и Совнаркома. В течение двух-трех недель мне на подпись приносили огромные списки, сшитые в целые тома, граждан, подлежащих высылке.
На этой почве у меня произошло несколько столкновений с первым секретарем ЦК Казахстана Мирзояном, который требовал не высылать тех или иных ценных работников республиканского аппарата, а я настаивал, чтобы он возбуждал об этом ходатайство перед Москвой, так как сам я не имел полномочий это делать. Аналогичные столкновения происходили и с рядом других руководящих работников республики. Но, конечно, мне приходилось нарушать требования, и я на свой страх и риск вычеркивал из списков не одну сотню фамилий наиболее пожилых врачей, профессоров и инженеров, считая, что будет полезнее, если они останутся в Алма-Ате. Не знаю, не подвергались ли все они высылке после моего ареста, последовавшего месяца через полтора после окончания всех этих дел...
Несколько позднее у меня с Мирзояном произошел конфликт по иному поводу. В газете «Правда» была помещена критическая статья, затрагивающая Мирзояна, под названием, кажется, «На поводу у националистов». Мирзоян узнал об этой статье заранее (в Алма-Ату центральные газеты привозились через сутки или двое) и распорядился запретить продажу этого номера газеты. В связи с этим я выступил на партконференции, обвинив Мирзояна в недопустимых действиях. (Во время пребывания в Алма-Ате меня избрали сначала членом райкома, затем горкома и, наконец, Алма-Атинского обкома партии.) После моего выступления Реденс сделал мне замечание, сказав, что я напрасно выступал с критикой Мирзояна, так как он может сделать из этого вывод, что в НКВД ведется разработка на него.
— А разве такая разработка ведется? — удивился я.
Реденс ответил, что ему дано указание из Москвы подобрать материалы на Мирзояна.
С Реденсом в Алма-Ате у меня с самого начала установились хорошие взаимоотношения, но, несмотря на это, в то время яд недоверия настолько сильно отравил всех нас, что я боялся быть с Реденсом откровенным до конца и старался не заговаривать с ним на темы о проводимых его подчиненными следствиях, арестах и т. п. Сам он также первое время не затрагивал этих вопросов. Интуитивно я чувствовал, что сам Реденс хотя и выполняет приказы Сталина и Ежова, но работает не с полной отдачей.
За три с половиною месяца совместной работы я, присутствуя почти на всех оперативных совещаниях УГБ, не раз был свидетелем того, как Реденс себя вел. Он старался уклониться даже от санкции на арест тех или иных руководящих работников, взваливая эти обязанности на своего заместителя по УГБ Володько*1.
_____
*1. Володько П. В. — майор госбезопасности, замнаркома НКВД Казахской ССР. Расстрелян в 1940 году.
Вообще в тот период Реденс старался как можно меньше работать, устраивая для себя различного рода проверки и инспекции, чтобы побольше поездить по городу, по пригородам, и постоянно уговаривал меня ехать вместе с ним.
Со своими заместителями Реденс не только не дружил, но я ни разу не видел никого из них у него дома. Кроме меня у него бывали только его секретарь Козин и Викторов.
Переехав из гостиницы в бывшую квартиру Кроля, расположенную рядом с домом Реденса, я распорядился, чтобы мне приносили обед и ужин из нашей столовой. Узнав об этом, Реденс стал настаивать, чтобы я обедал у него. Я старался уклоняться от этих приглашений, чтобы не надоедать, все же довольно часто Станислав Францевич затаскивал меня к себе обедать.
К Викторову я ни в Иванове, ни здесь, в Алма-Ате, никаких симпатий не чувствовал. Наоборот, зная о его участии в самых страшных и грязных делах, инстинктивно держался от него по возможности на отдалении. Он же всегда был со мною подчеркнуто любезен и вежлив, и у меня не было формально никаких оснований считать его своим недоброжелателем. Встречались мы только у Реденса. К себе я его никогда не приглашал и к нему домой никогда не ходил.
Из обрывков разговоров Викторова и других следственных работников НКВД между собой, которые мне приходилось слышать, я знал, что они, так же как и в Иванове, избивают арестованных и добиваются от подследственных нужных им показаний, но открыто об этом не говорилось.
Более того, однажды я своими ушами слышал, как Реденс на оперативном совещании руководящего состава наркомата, где я присутствовал, заявил:
— До меня дошли сведения, что кое-кто из работников отдела Викторова применяет физические методы во время допросов. Предупреждаю, что буду отдавать под суд любого работника за такие дела.
На вопрос одного из присутствующих: «А как же быть с директивой центра, с которой вы нас ознакомили?» (речь, видимо, шла о директиве за подписью Сталина, разрешающей применение физических методов в отношении «врагов народа». О существовании этой директивы я узнал спустя год, находясь под следствием) Реденс сдержанно ответил:
— Если речь пойдет о явных шпионах, то и тогда надо быть очень осторожными в части применения физических методов.
Ни тогда, ни теперь я так и не знаю, для чего Реденс говорил о запрещении физических методов при допросах. Ведь он не мог не знать, что как в Москве, так и здесь, в Алма-Ате, его подчиненные применяли и применяют в отношении подследственных избиения, но, видимо, на всякий случай он публично запрещал физические методы, а может быть, говорил это для собственного успокоения, что, конечно, не мешало его работникам преспокойно продолжать свое грязное дело.
Бывая на оперативных совещаниях у Реденса, я вскоре из докладов работников УГБ услышал, что готовится материал против первого секретаря ЦК Мирзояна, председателя Совнаркома Исаева и ряда других партийных руководящих работников Казахстана. Так же продолжали собирать материал на уже арестованного в Москве бывшего до Реденса наркома — Залина.
Залина (Левина) я помнил с 1919 года, когда он был народным комиссаром труда Литвы и Белоруссии. Я рассказал Реденсу все, что знал о Залине, выразив сомнения в возможности какой-либо виновности его перед партией. Реденс сказал, что Залин попал под сильное влияние Мирзояна и вообще очень либеральничал, распустил весь аппарат.
— Но разве это контрреволюция? — попытался возра зить я.
— Москва рассматривает это именно так и все время требует от меня дополнительные материалы, — поморщившись, объяснил Реденс, показывая тем самым, что ему неприятны мои расспросы.
Позднее, когда я как-то поинтересовался, как же мне вести себя по отношению к Мирзояну и можно ли ему докладывать обо всем, Реденс ответил, что на Мирзояна имеются очень серьезные материалы, и посоветовал «особенно с ним не откровенничать».
Когда я прибыл в Алма-Ату, кажется, так называемая «спецтройка» уже не работала, поэтому основная масса дел на «врагов народа» передавалась в спецколлегию Верховного суда.
Председателем спецколлегии Верховного суда Казахской ССР был бывший работник органов Бурдаков, который в то время проявлял особое рвение в выявлении и уничтожении «врагов народа». Бурдакова Реденс неоднократно характеризовал как карьериста высшей марки. Я несколько раз встречал Бурдакова на партактивах. Это был полный человек с круглым, лоснящимся от жира лицом. Стоило ему встретиться с кем-либо из начальства — Мирзояном, Исаевым, Реденсом или даже со мною, — как он мгновенно начинал кланяться, расшаркиваться, юлить и с подхалимской улыбочкой сыпать лакейскими словечками: «Слушаюсь!», «Так точно!» и т.п. (Спустя полгода, сидя в Бутырской тюрьме в Москве, я столкнулся в одной из камер с группой ответственных работников Казахстана, в числе которых был бывший наркомюст, от которого я узнал многие подробности о зверской деятельности в Алма-Ате Бурдакова. С его слов, Бурдаков за «особые заслуги» в уничтожении лучших казахстанских партийных и советских работников после ареста Реденса был назначен наркомвнуделом Казахстана и взял к себе заместителем бывшего начальника Семипалатинского отдела НКВД Бориса Чиркова. Все доставленные из Казахстана арестованные товарищи рассказывали об ужасных избиениях и пытках, которые применяли к подследственным Бурдаков и Чирков. Впоследствии Бурдаков был «наказан», т.е. переведен на должность начальника управления Воркутинскими лагерями, где, по существу, являлся «наместником», распоряжавшимся жизнью десятков тысяч заключенных коммунистов и беспартийных. Его дальнейшая судьба мне неизвестна.)
Но возвращаюсь к алма-атинскому периоду. Когда был арестован первый заместитель Реденса по НКВД Володько, а вскоре вслед за ним и начальник управления погранохраны (замечательный большевик, прекрасный партийный работник, по национальности латыш, фамилию которого я забыл)*1, Реденс возложил на меня руководство управлением погранохраны. Он также пытался уговорить меня согласиться на должность заместителя наркома по НКВД, но я категорически отказался, говоря, что я очень люблю работу в милиции и ничего героического не вижу в нынешней работе НКВД.
_____
*1. Имеется в виду комбриг А. А. Роттермель, арестованный в апреле 1938 года. Расстрелян в феврале 1939 года.
Несмотря на то, что я никогда сам не заводил с Реденсом разговоров на скользкую тему о причинах массовых арестов и о «новых методах» следствия, все же этот разговор несколько раз возникал, и всегда по инициативе Реденса.
Как-то поздно ночью он позвонил мне в кабинет и предложил проехаться по городу. На обратном пути, не доезжая до дома, мы отпустили машину, решив немного прогуляться пешком.
Не знаю уж, что произошло у Реденса в управлении в тот вечер, но он вдруг без всякой связи с разговором, который мы вели в машине, сказал:
Жил бы Феликс Эдмундович, он всех нас перестрелял бы за наши дела.
— За что же? — разыгранно непонимающе спросил я.
— Твое счастье, что ты работаешь в милиции, а каково мне? — произнес Реденс. — Ведь я должен выполнять, по существу, преступные приказы. И хотя я формально запрещаю бить подследственных, тем не менее прекрасно знаю, что мои подчиненные бьют.
Я сказал Реденсу, что в Иванове его «воспитанник» Радзивиловский с компанией тоже с успехом применял новые методы следствия, в результате чего уничтожил большое количество руководящих партийных и государственных работников, в виновности которых я сомневаюсь, хотя большинство из них признались в принадлежности к правотроцкизму.
Когда я произнес фамилию Радзивиловского, Реденс брезгливо поморщился.
— Какой он мой воспитанник? Радзивиловский — вы движенец Агранова, а теперь любимец нового наркома. В прошлом Радзивиловский был способным чекистом, но по натуре — страшный карьерист. Ему приказывают, а он рад стараться. Не остановится даже перед тем, чтобы уничтожить родного отца.
Тогда я рассказал, что Радзивиловский в Иванове не дал меня арестовать, хотя, видимо, кто-то собирал на меня материал. И привел эпизод с Саламатиным, угрожающим мне расстрелом.
— Тебе просто повезло! — заключил Реденс, выслушав меня.
Воспользовавшись тем, что наш разговор зашел на болезненно интересующую меня тему, я спросил Реденса о нашумевшем деле группы наших военачальников во главе с Тухачевским и вспомнил, как Стырне в Иванове заверил меня, что «дело чистое».
— Как же получилось, Станислав Францевич, с Тухачевским и другими военными руководителями? Ведь они признались в шпионаже! Как вы могли «проспать» это дело?
После большой паузы Реденс задумчиво сказал:
— Ну, раз признались, значит, враги. Да и дело их вел центр, а не Московская область. Правда, у меня тогда забрали на следствие «лучших специалистов» во главе с Радзивиловским. — Произнося фамилию последнего, Реденс снова поморщился. — А в общем, давай прекратим говорить на эту невеселую тему. Мы с тобой ничего не знаем.
— Я действительно ничего не знаю, — ответил я, — но вы, как начальник УНКВД Московской области, должны все хорошо знать.
Лучше бы я тоже ничего не знал. И прошу тебя, давай на этом закончим.
Анализируя все эти разговоры с Реденсом в 1938 году сейчас, более тридцати лет спустя, я глубоко убежден, что Станислав Францевич уже тогда отлично понимал, от кого исходила кровавая истерия (так же как знал, что Ежов, к которому он, кстати говоря, относился с неприязнью, являлся только очередным мавром, который, сделав свое кровавое дело, должен будет уступить место другому, выдвинутому хозяином). Но положение Реденса и обстановка того времени обязывали его, да и всех нас ни при каких условиях не называть вещи своими именами и не быть до конца откровенными даже с лучшими друзьями. Я же для Реденса не был близким другом, хотя мы были сравнительно давно знакомы. Он ценил меня как энергичного работника, а я уважал его как хорошего начальника и, кстати, как близкого родственника Сталина, которого я в то время боготворил и слепо верил, что он не знает о том, что творится в органах НКВД.
В середине апреля 1938 года в Алма-Ату приехала моя жена с малышами. Старшему, Мише, шел уже четвертый год, младшему, Вите, исполнилось два года. Мы жили в маленьком домике, окруженном крохотным садиком, на улице Фрунзе, в глубине двора. В двух-трех метрах от нашей терраски проходил забор реденсовского участка. В заборе специально были выломаны две доски, и через это отверстие мы ходили друг к другу в гости, чтобы не обходить вокруг, через улицу.
Жену Реденса — Анну Сергеевну Аллилуеву (младшая ее сестра, Надежда Сергеевна, была женой Сталина) — я знал раньше. В Москве один период (1927 — 29 годы) я и семья Реденса жили в одном доме в Варсонофьевском переулке, № 4, но подружились мы семьями в короткий алма-атинский период.
Младший сын Реденса Володя был почти ровесником нашему Мише, и они часто играли вместе, старший сын, Леонид, был значительно старше всех: ему было лет девять.
Как и в Иванове, у нас здесь постоянно бывали гости. Мы угощали своих гостей замечательно вкусными алма-атинскими яблоками, а с первых чисел мая — необыкновенно крупной черешней и клубникой. Материальное положение нашей семьи по сравнению с ивановским периодом значительно улучшилось, и мы могли позволять себе то, что ранее было недоступным.
Во второй половине апреля в Алма-Ату приехал бывший начальник одного из отделений угрозыска в Иванове Кондаков. Оформляя в Москве свой перевод, Кондаков получил выделенную для меня Чернышевым автомашину «ЗИС-101». Как только бежевый красавец «ЗИС» (бывший тогда новинкой) появился на улицах Алма-Аты, он вызвал восхищение и зависть всех руководящих работников. Реденс, Мирзоян, Исаев и еще кто-то наперебой предлагали мне поменяться с ними, обещая за «ЗИС» две легковые машины, но я меняться не захотел и очень гордился своей замечательной машиной.
Плохие новости привез мне Кондаков из Иванова.
Он рассказал, что новый начальник УНКВД, прибывший в Иваново после Радзивиловского, Журавлев, производит все новые и новые аресты. Недавно арестовал начальника санчасти милиции доктора Дунаева. Ждет ареста мой земляк, работник НКВД Клебанский, который, встретясь перед отъездом с Кондаковым, высказал ему свои предположения на этот счет. Журавлев вызывает к себе уволенных мною из милиции за взяточничество, пьянство, разложение и нарушение соцзаконности работников, восстанавливает их на работе в милиции, предварительно «помогая» им составлять какие-то показания. По словам Кондакова, в милиции и УНКВД Иванова упорно ходят слухи о том, что Журавлев и его помощники подбирают материалы на меня и что меня, по-видимому, скоро арестуют.
Немедленно после разговора с Кондаковым я пошел к Реденсу и рассказал ему обо всем услышанном, но он успокоил меня, сказав, что не видит никаких оснований для волнений.
— Конечно, «Ежик» творит чудеса, и никто из нас не может быть гарантирован от ареста, — закончил Реденс, — но если никаких дел за тобой нет, можешь быть спокоен.
Несмотря на утешения Реденса, всевозможные страшные мысли невольно лезли в голову, как я ни пытался с утра и до вечера занимать себя работой. Я поделился своими переживаниями с женой, сказав, что, возможно, на меня в Иванове готовится какой-то провокационный материал, но чтобы она знала, если меня арестуют, что я не чувствую за собой никакой вины и никаких проступков против партии и народа никогда не совершал.
Мы с женой погоревали о попавшем в беду добряке и милейшем человеке, друге нашего дома в Иванове докторе Дунаеве. В виновность Александра Федоровича Дунаева невозможно было верить.
Накануне 1 мая Реденс, как обычно, потащил меня вечером «проверять», как город подготовлен к празднованию. Я уже упоминал, что он в тот период старался как можно меньше бывать в управлении. Мы на машине отправились по улицам Алма-Аты, как вдруг в одном окне второго этажа, зарешеченном крупной клеткой, увидели ярко освещенный портрет Сталина, как будто бы смотрящего сквозь решетку. Не хватало только поднятой руки со сжатым кулаком, чтобы получилось полное впечатление известного тогда плаката МОПР «Рот Фронт» об узниках фашизма. Поднявшись на второй этаж, мы увидели какое-то захудалое учреждение. Зарешеченное окно находилось в комнате секретно-шифровального отдела.
— Что же это вы товарища Сталина за решетку посадили? — не повышая голоса, спросил у дежурного Реденс.
Тот вскочил с места, увидев нас в форме НКВД, и растерянно стал что-то бормотать о своем неведении и о том, что он сейчас, мол, составит акт по этому поводу.
— Нет уж, вы, пожалуйста; никакого акта не составляйте. А то он попадет к нам, и придется еще этим делом заниматься. А просто сейчас же снимите с окна портрет, как будто там его никогда и не было, — заключил Реденс, крайне обрадовав дежурного, у которою, по всей видимости, душа уже давно была в пятках.
Когда мы выходили на улицу, я подумал, что, будь вместо Реденса кто-либо из холуев Радзивиловского, Горбача и им подобных, тут уж неминуемо было бы создано «крупное дело» о «дискредитации вождя народов», повлекшее за собою арест руководителей учреждения.
За несколько дней до 1 мая в Алма-Ату прибыла «инкогнито» группа товарищей из ЦК во главе со Скворцовым (кажется, Николаем Александровичем). Как мне сказал Реденс, товарищи из ЦК прибыли специально для проверки собранных материалов о контрреволюционной деятельности Мирзояна и его приближенных и с заданием разгромить группу Мирзояна.
Первого мая 1938 года группа работников НКВД, возглавляемая Реденсом, в которую входил и я, находилась на правительственной трибуне, с которой Мирзоян, Исаев и другие руководители Казахской ССР приветствовали праздничную, расцвеченную самыми яркими красками демонстрацию трудящихся Алма-Аты.
Во многих колоннах трудящиеся Казахстана несли огромные портреты Мирзояна, по размеру большие, чем Сталина. Корреспонденты «Правды» и «Известий» усиленно фотографировали колонны с такими портретами для отправки фотографий в Москву.
Кто-то рассказывал, что Мирзоян якобы сказал альпинистам, покорившим одну из самых высоких горных вершин и предложившим назвать эту вершину «пиком Сталина», что «следующий покоренный пик будет имени Мирзояна».
Жены, Реденса и моя, вместе со всеми четырьмя мальчиками находились на трибуне для гостей. Козлов мимоходом «щелкнул» фотоаппаратом возле них, и эта фотография сохранилась у нас до сих пор.
После демонстрации Реденс предложил поехать за город, и мы, завезя жен с ребятами домой, отправились на прогулку к реке Илие. По дороге в горы мы устроили своеобразные гонки, и мой первоклассный шофер Иванов на новом бежевом «ЗИСе» оказался победителем, обогнав «бьюик» Реденса. Тот страшно ругался нам вслед, призывая на меня и моего шофера всевозможные проклятия, но мы дали газ и запылили им в нос.
Выкупавшись в реке Илие, мы к обеду возвратились в Алма-Ату. У себя в домике я застал Козлова и Семеновкера, которых пригласил обедать. Но только мы собрались сесть за стол, как через дыру в заборе появился Реденс и стал настаивать, чтобы все мы шли обедать к ним. Мы с женой пытались протестовать, говоря, что у нас гости, но Реденс схватил наших ребятишек: Мишу под правую, а Витю под левую руку и, ни слова не говоря, потащил их сквозь дыру в заборе на свою территорию. Ребята дружно заорали, усиленно мотая ногами и руками. Нам и корреспондентам ничего не оставалось, как следовать за Реденсом.
Обед прошел весело и непринужденно. Анна Сергеевна наготовила много очень вкусных блюд. Все немного выпили, корреспонденты острили.
К концу обеда вдруг зазвонил телефон. Реденса соединили с Москвой. Видимо, разговор был заказан заранее. Все мы приумолкли и невольно вслушивались в разговор Реденса в соседней комнате. Поздравляя кого-то с праздником (не называя имени), Реденс сказал, что мы только что пили за его здоровье. Затем собеседник Реденса, видимо, спросил, как идет дело Мирзояна, на что Станислав Францевич ответил: «Сегодня носили на демонстрации его портреты размером в человеческий рост! Приехавшие из Москвы товарищи сами это видели» (имея в виду группу Скворцова). Завершил разговор Реденс сообщением, что «на днях все будет закончено». (Поскольку, как тогда полагалось, мы первый тост пили за Сталина, у меня сначала создалось впечатление, что Реденс говорил со Сталиным, но много лет спустя Анна Сергеевна, бывшая у нас дома, утверждала, что Реденс из Алма-Аты ни разу не говорил по телефону со Сталиным, так как тогда у них уже были испорчены отношения. За Ежова мы не пили, да и Реденс, судя по его высказываниям, явно его недолюбливал, а Ежов, как говорили, побаивался Реденса, как родственника Сталина. Скорее всего, думаю я теперь, Реденс говорил тогда с Кагановичем.)
Через день или два из Москвы поступило решение ЦК за подписью Сталина об освобождении Мирзояна от должности первого секретаря ЦК КП Казахстана. Мирзоян был отозван в распоряжение ЦК ВКП(б). На его место был рекомендован прибывший ранее из Москвы Н. А. Скворцов.
Мирзоян тут же уехал в отдельном вагоне в Москву. От Реденса я узнал, что по дороге в Москву он был арестован.
Поздно вечером, когда мы вдвоем с Реденсом возвращались домой и, отпустив машину, пошли пешком пройтись, Реденс с раздражением сказал:
— Вот арестовали почти всех секретарей ЦК союзных республик, крайкомов и обкомов, многие из которых были хорошими коммунистами, а такую сволочь, как Берия, небось не трогают, так же как не трогают холуев Кагановича и Хрущева.
Я с удивлением взглянул на Реденса, не понимая, чем вызван такой взрыв негодования против Берии, но оказалось, что Реденс хорошо знал Берию по совместной работе в Закавказье. Одно время Реденс был назначен полпредом ОГПУ в Закавказье, а Берия был у него заместителем.
От Реденса же я узнал, что он располагал сведениями о том, что, когда в 1925 или 1927 году в Кутаиси вспыхнуло вооруженное восстание меньшевиков, которое якобы было «блестяще подавлено» Берией, фактически оказалось, что восстание это было инспирировано самим Берией для поднятия своего престижа. Реденс рассказывал, что Сталину докладывали об этом, но он почему-то относился к Берии с особым доверием и ничего плохого о нем слышать не хотел.
Но я снова уклонился от своего повествования. Прошли первомайские праздники. В Алма-Ате тревожные события все нарастали.
Пришла открытка из Красноярска от Феди Чангули, который вскоре после моего отъезда из Иванова получил назначение помощником начальника Управления Красноярскими лагерями. Федя сообщал, что арестован и его везут в Иваново. Просил вмешательства и помощь. Кто-то из сотрудников лагеря или УНКВД взял на себя смелость отправить на мое имя (и, как я узнал позднее, по другим адресам) Федины открытки с этим печальным сообщением. Такую же открытку получил А.В.Викторов, который был очень обеспокоен арестом Чангули, боясь за себя. Встретившись с Викторовым, мы решили позвонить в Москву Радзивиловскому. Тот ответил, что он уже в курсе дел и постарается принять меры для посылки в Иваново из Москвы комиссии для расследования незаконных арестов сотрудников органов новым начальником УНКВД Журавлевым. В конце разговора Радзивиловский заверил нас, что мы можем быть совершенно спокойны.
Примерно 10 мая 1938 года пришло известие из Москвы об аресте 30 апреля двоюродного брата моей жены, студента предпоследнего курса МАИ Олега.
(Впоследствии мы узнали, что поводом к аресту Олега послужила его дружба с детьми арестованного ранее наркомзема Чернова, соседа по даче в Барвихе. «Дело» Олега, по которому он получил 5 лет лагеря, называлось «Осколки». Сам Олег называл это «дело» «бредом сивой кобылы».)
Под впечатлением только что полученного известия об аресте Олега я сел и написал рапорт на имя Ежова, в котором сообщал, что недавно арестован мой товарищ по работе в Иванове Чангули, а теперь двоюродный брат жены — Олег Рейхель и что я могу поручиться за их честность и идейную благонадежность и убедительно прошу тщательнейшим образом разобраться с их делами. Написав рапорт, я тут же отправил его в Москву и только после этого пошел и рассказал обо всем Реденсу.
Реденс стал ругать меня за то, что я, не посоветовавшись с ним, написал этот рапорт Ежову. Он считал, что я допустил огромную неосторожность и глупость, что сейчас не время за кого-то ручаться и что из-за этого рапорта я могу попасть в неприятное положение. Да и вообще он считал, что писать на имя Ежова совершенно бесполезно. Как обычно, когда мы разговаривали вдвоем, Реденс произнес фамилию Ежова с нескрываемой неприязнью. На этот раз он уже не утешал меня тем, что если я ни в чем не виноват, то мне нечего бояться. Он прямо сказал о возможности необоснованного ареста, и я чувствовал, что Реденс говорит со мною почти с полной откровенностью.
— Вот я нарком, — после паузы продолжал Реденс, — член Ревизионной комиссии ЦК партии, депутат Верховного Совета СССР — и не в состоянии противостоять этой грязной буре. Москва все время нажимает и нажимает, и я чувствую, что кончится тем, что и меня самого скоро посадят и расстреляют.
— Но почему же вы, Станислав Францевич, не поставите вопрос перед самим Сталиным? Вы же его родственник, близкий человек.
— Неужели ты не понимаешь, что ставить подобный вопрос перед Иосифом Виссарионовичем — значит, ставить вопрос о нем самом. Разве может Ежов без его санкции арестовывать членов Политбюро и руководящих работников партии?
И, помолчав, добавил:
— Тут дело в том, что Ежов, видимо, так докладывает Сталину, что сам вселяет ему подозрения во всевозможных покушениях и диверсиях, а Сталин верит этому, и раз убедить его никто и ничто не может. Я Иосифа Виссарионовича знаю очень близко. Это человек, не терпящий никаких возражений. А если в его поле зрения попадает умелый подпевала, каким сейчас является Ежов, то уже никакая сила не может остановить этот все нарастающий вал шпиономании. А знаешь, почему я оказался в Казахстане? — вдруг спросил Реденс и продолжал: — Когда в Москве ряд моих подчиненных стали фальсифицировать одно за другим ряд дел, я попытался противостоять этому. Об этом, естественно, немедленно стало известно «наверху»... И вот — я здесь, и, конечно, «убрали» меня из Москвы не без благословения моего шурина.
С болью в сердце слушал я эти рассуждения Реденса, убивающие последнюю теплящуюся у меня надежду на то, что Сталин до конца не знает того, что делается в органах НКВД. И, несмотря на то, что я знал об осведомленности Реденса во всех этих делах, вопреки здравому смыслу я все же и верил и не верил ему.
— Меня не столько удивляют аресты, — сказал я, — сколько признания бывших преданнейших старых большевиков в самых страшных преступлениях против партии. Ведь многие из этих старых революционеров в царской России не жалели своей жизни и шли на верную смерть во имя нашей правды, не сказав ни слова. Почему же они теперь не выносят избиений и признаются в не совершенных ими преступлениях? Или, может быть, я не прав и они действительно совершали эти преступления?
— Чудак ты! — ответил Реденс. — В том-то и секрет, что до революции все мы боролись против царского самодержавия, а сейчас начать борьбу с Ежовым и выше стоящими людьми — это значит нанести удар в спину партии.
И все-таки я тогда еще никак не мог осмыслить всего этого. Не мог понять, какая сила заставляет старых, закаленных в царских тюрьмах и в подполье большевиков признаваться на открытых процессах (или на следствии) в несовершенных преступлениях.
(Много позднее я узнал на своем горьком опыте и из рассказов ряда товарищей по заключению, что не последнюю роль в тогдашнем «следствии» играло лживое заверение следователей в том, что, подписывая клевету на себя и своих сослуживцев и товарищей, арестованный, мол, «помогает» партии. И хотя-де сам он не виноват, но поскольку попал в организацию, где орудовали «враги народа» и террористы, то в интересах партии и лично товарища Сталина должен подписать ложные показания, чтобы помочь стране избавиться от «врагов, мешающих строительству социализма и коммунизма», и, главное, избавить себя от пыток, поскольку, мол, все уже предрешено и остальные сослуживцы, находящиеся под следствием, свои показания о вражеской деятельности уже подписали.
Впоследствии мне приходилось встречать нескольких коммунистов, которые, поддавшись на эту «удочку», подписывали заведомо клеветнические показания на себя. Конечно, не исключено, что немаловажную, если не основную роль тут играло желание избежать избиения и пыток, но тем не менее лично я уверен, что в отдельных случаях, когда следствие вели опытные работники, обладающие даром убеждения, этот метод мог иметь большое влияние. Но я никогда и нигде не читал ничего подобного в приказах и распоряжениях. Видимо, это было изобретение, передававшееся от одного следователя к другому устно, в порядке «повышения квалификации».)
В результате этого откровенного разговора с Реденсом тяжелый осадок остался на душе. Мое и без того подавленное состояние ухудшилось. После ареста Чангули и особенно Олега, а еще раньше — доктора Дунаева и моего земляка Клебанского мы с женой понимали, что теперь возможность моего ареста становилась все более вероятной.
Прошло недели две, и Реденс как-то вечером пригласил меня в кинотеатр на просмотр новой тогда картины «Волга-Волга». В середине сеанса в ложу вошел посыльный из ЦК и сообщил, что меня немедленно вызывают в ЦК партии Казахской ССР. Из-за переживаний последних дней всякий вызов вселял в меня тревогу. Я вопросительно посмотрел на Реденса, но он, видимо, зная, в чем дело, улыбнувшись, сказал:
— Иди, иди, не пожалеешь.
В ЦК меня приняли Скворцов и второй секретарь ЦК (к сожалению, фамилии не помню). Скворцов поздравил меня и сообщил, что ЦК рекомендует мою кандидатуру в депутаты Верховного Совета Казахской ССР от Петропавловского центрального избирательного округа.
— Уже получены телеграммы от ряда петропавловских организаций, которые по нашей рекомендации выдвигают вашу кандидатуру в депутаты в Верховный Совет. Они просят, чтобы вы подтвердили согласие, — передавая мне пачку телеграмм, сказал Скворцов.
Я стоял, оглушенный и ошеломленный свалившейся на меня неожиданной радостью. Я был уверен, что сам факт выдвижения моей кандидатуры в Верховный Совет и, следовательно, такого огромного доверия полностью снимает все мои опасения и тревоги насчет возможного ареста.
Скворцов, который вообще явно мне симпатизировал, был, видимо, очень рад за меня. Незадолго до этого на заседании Совнаркома и ЦК Казахстана он положительно отзывался о работе милиции и обо мне в частности. Позднее от Реденса я узнал, что выдвижение моей кандидатуры было сделано по инициативе Скворцова.
Мне на всю жизнь врезались в память названия некоторых петропавловских организаций, приславших телеграммы: рабочие и служащие мясокомбината, петропавловский воинский гарнизон, мукомольный комбинат, работники центрального телеграфа, рабочие кирпичного завода.
Тут же, в кабинете Скворцова, я составил телеграмму в Петропавловский обком компартии Казахстана, в которой благодарил за огромное доверие и подтверждал свое согласие баллотироваться. На телеграмме сверху поставили гриф «Правительственная-выборная» и отправили на телеграф.
Через несколько дней в алма-атинской и петропавловской газетах появились мои портреты и краткие биографические данные. ЦК КП Казахстана в соответствии с приглашением Петропавловского обкома вынесло решение о командировании меня в Петропавловск для встречи с избирателями.
Накануне или за день до назначенного на 2 июня выезда в Петропавловск я вдруг узнал, что арестован начальник областного управления милиции Эглит. Вне себя я помчался к Реденсу.
— Что это за безобразие, Станислав Францевич? — вбежав к нему в кабинет, с места в карьер начал я. — Что я, ваш заместитель или просто какой-нибудь холуй?
— А в чем дело? Чего ты кипятишься?
— Я только что узнал, что арестован начальник Петропавловского областного управления милиции Эглит, а мне ничего об этом не известно.
— Странно, — удивился Реденс, — а Викторов сказал мне, что согласовал с тобой арест Эглита.
— Викторов врет! И вообще я должен заявить, что хотя у меня с Эглитом еще в Иванове был ряд конфликтов и он не очень приятный человек, но он безусловно честный и преданный коммунист.
О— пять ручаешься, — поморщился Реденс. — За всех поручиться никто не может. Позвони Викторову и узнай, в чем дело.
Позвонив Викторову, я в резкой форме высказал ему свои претензии. Викторов начал оправдываться и сказал, что не стал меня предупреждать об аресте Эглита, так как знал, что я начну затягивать это дело, а у него есть ряд неопровержимых доказательств виновности Эглита.
Я заявил, что буду вынужден поставить вопрос перед Москвой, поскольку моих подчиненных арестовывают без согласования со мною. На это Викторов возразил, что для него было достаточно получить санкцию Реденса и что он вообще советует мне не защищать шпионов и «врагов народа», которым, по его мнению, является Эглит.
— Ты уже делал такие ошибки в Иванове, защищая «врагов народа», — попрекнул меня Викторов. — Скажи спасибо Радзивиловскому, что тебя самого не посадили.
Обозвав Викторова нецензурным словом, я в сердцах бросил трубку. Арест Эглита и неприятный разговор с Викторовым снова испортили мне настроение, и я с тяжелым сердцем стал собираться в Петропавловск.
На следующее утро на двух машинах мы выехали из Алма-Аты напрямик через Балхаш, Караганду, Акмолинск.
Всего нас было семеро: два шофера, корреспондент «Известий», начальник одного из отделений угрозыска и два работника охраны, полагающиеся теперь мне как депутату. Дорога на поезде с пересадками заняла бы 4 — 5 суток, а на машине можно было доехать за 2 — 3 суток.
В районе Караганды я решил заехать в управление Карлага, в Долинское, чтобы повидаться с Николаем Ивановичем Добродицким, но, к сожалению, он был в командировке в Москве. Все мы остановились переночевать у начальника лагеря.
В Карагандинском лагере (в основном, сельскохозяйственном) были хорошие скотоводческие и молочные фермы. Представители лагерной администрации рассказывали о положении в лагере и о том, что здесь уже очень много политзаключенных.
Как своего рода сенсацию мне рассказали, что одна известная московская балерина работает у них дояркой, а старик профессор-пушкинист — сторожем. Многие политзаключенные работали экономистами и техническими работниками в управлении Карлага. Все это были грустные рассказы. Но, во всяком случае, тогда в Карлаге условия содержания заключенных были относительно хорошими. Администрация лагеря была заинтересована, чтобы заключенные лучше работали, и, естественно, старалась создать для них более или менее нормальные условия жизни, что далеко не всегда делалось в тот период в других лагерях. Правда, само собой разумеется, что сельскохозяйственные работы вообще несравненно легче, чем работы где-либо в шахтах, на лесоповале, в каменоломнях и т. п.
Следующую остановку мы сделали в областном центре Акмолинске, где переночевали в гостинице. Недалеко от города было расположено так называемое десятое отделение Карлага, где содержались, главным образом, жены «врагов народа». Меня пригласили посетить это отделение, но я отказался поехать туда, так как опасался встретить там жен своих бывших товарищей, которым я, естественно, ничем бы помочь не мог. Руководители этого лагеря рассказывали, что якобы для жен созданы относительно хорошие условия. Но, тем не менее, там происходили тяжелые сцены, поскольку многие женщины не знали судьбы своих детей, в большинстве случаев размещенных по различным детским домам.
В Петропавловске меня радушно встретили. Много раз я выступал на различных предприятиях, в том числе на мелькомбинате, на кирпичном заводе и пр. На все собрания меня сопровождал заместитель председателя Совнаркома Казахстана Лазарев, находящийся в это время в Петропавловске в командировке. Лазарев выступал на собраниях и рекомендовал избирателям мою кандидатуру. Газеты ежедневно выходили с моими фотографиями, автобиографическими данными и отчетами о моих выступлениях. Эти материалы перепечатывались в алма-атинских газетах, а остальные заметки появлялись в центральной печати.
Встречи с трудящимися Петропавловска вливали в меня много сил и энергии, мысли были направлены только к одной цели — получше оправдать оказанное мне народом доверие.
В Петропавловске я жил в гостинице с 8 по 11 июня 1938 года.
В один из этих дней в числе других избирателей ко мне пришла жена Эглита.
— В ваших руках, Михаил Павлович, жизнь детей и моя, — со слезами начала она. — Спасите мужа!
— К сожалению, дорогая моя, — ответил я ей, — как работник милиции, я никакого отношения не имею к этим делам... И, кроме того, не удивлюсь, если через некоторое время и меня постигнет участь вашего мужа.
— Что вы говорите? Неужели так плохо обстоят дела?
— Увы, именно так.
— Не может быть! Ведь вас выдвинули депутатом в Верхсовет!
— А сколько депутатов уже посадили,— возразил ей я. Накануне возвращения в Алма-Ату я увидел сон, будто бы меня приходит арестовать начальник УНКВД Петропавловска, с которым я познакомился и виделся все дни своего пребывания в Петропавловске. Перед отъездом мы с ним вместе обедали, и я сказал ему:
— Знаете, я ночью видел сон, будто бы вы меня арестовываете как врага народа.
Он улыбнулся и сказал, что не представляет себе, чтобы со мною могло произойти что-либо подобное. В его улыбке не было ничего деланного, она казалась искренней и безмятежной.
Когда я сел в вагон со своими работниками охраны, то в соседнем купе оказался начальник одного из отделений управления погранохраны Соколов. Всю дорогу, продолжавшуюся более четырех суток, Соколов не отходил от меня, старался всячески развлекать, рассказывал всевозможные истории, организовывал выпивку и закуску.
16 июня 1938 года в 6 часов утра наш поезд прибыл в Алма-Ату. На вокзале меня встретили мой заместитель и еще несколько работников. Настроение у всех было бодрое, погода солнечная. Заехав домой, я выкупался, выпил с женой стакан чая и ушел на работу, так и не повидав малышей, которые еще спали.
В 9 часов утра я вызвал к себе всех начальников отделов, выслушал краткие доклады о работе милиции за время моего отсутствия, подписал ряд приказов. Затем позвонил Викторову, узнать, нет ли чего-либо нового, но он сухо сказал, что ничего нет, давая понять, что не хочет разговаривать. Я повесил трубку, отнеся его тон на счет нашей ссоры перед моим отъездом из Алма-Аты по поводу ареста Эглита.
Около 12 часов дня мне позвонил Реденс, справился, благополучно ли я съездил, и попросил, чтобы я сейчас же приехал к нему.
В хорошем и бодром настроении я отправился в Управление НКВД к Реденсу, который встретил меня, как и всегда, очень приветливо и предложил позавтракать с ним.
Во время завтрака я рассказывал ему о своей поездке, а когда завтрак подошел к концу, Реденс вдруг спросил:
— Ты помнишь наш разговор с тобой о «Ежике»? С этими словами он протянул мне телеграмму:
— На, полюбуйся.
Текст телеграммы гласил: «Расшифровать немедленно. Немедленно арестуйте доставьте строгим спецконвоем Москву замнаркомвнудела Казахстана Шрейдера Михаила Павловича повторяю Шрейдера Михаила Павловича. Ежов».
Ошеломленный, я не верил своим глазам и в первое мгновение с надеждой подумал, что все это шутка.
— Бросьте меня разыгрывать, — сказал я.
— Нет, Михаил, к сожалению, это не розыгрыш, — со вздохом ответил Реденс.
— Станислав Францевич, вы давно знаете меня, вы — шурин Сталина. Я прошу вас, напишите Ежову и Сталину, что тут, видимо, какая-то ошибка, чтобы с моим делом внимательно разобрались.
— Я, конечно, дам о тебе самый лучший отзыв, но боюсь, что это бесполезно. Сегодня с тобою беда, а завтра, возможно, и до меня дойдет очередь.
Тогда я попросил Реденса помочь моей жене с детьми выехать в Москву к матери. Он заверил меня, что сделает все, что возможно. Затем Реденс встал и сказал, что пойдет сам во внутреннюю тюрьму и проверит, как оборудовали для меня камеру.
Я остался один в кабинете наркома. При себе у меня было два пистолета: карманный «стеер» и маузер на боку. На столе у Реденса находилось несколько телефонов, вплоть до кремлевского. Я имел возможность позвонить домой жене, но не сделал этого. Мне нечего было добавить к тому, о чем мы с нею много раз уже говорили.
Я имел возможность застрелиться. (Не исключено, что и Реденс, оставляя меня с оружием, думал об этом.) Ведь меня, как и всех других, ожидали избиения и пытки. Но в то же время я подумал, что если застрелюсь, то обо мне скажут, как писали и говорили о Томском, Гамарнике и других, что они покончили жизнь самоубийством, желая скрыть свои преступления. А сам я, несмотря ни на что, продолжал в глубине души надеяться, что смогу доказать свою невиновность и что, как только меня привезут в Москву, там разберутся и меня освободят.
Прошло минут двадцать, прежде чем возвратился Реденс в сопровождении своего секретаря Козина. Козин отобрал у меня маузер, не подозревая, что у меня в нагрудном кармане гимнастерки еще маленький «стеер», но я сам вынул этот револьвер и отдал ему.
Затем в сопровождении Реденса и Козина мы прошли по зданию НКВД в направлении к внутренней тюрьме. Встречавшиеся на нашем пути сотрудники, ничего не подозревая, как обычно, приветствовали нас.
(В эти мгновения я видел Реденса в последний раз. Козина же встретил в 1947 году. Отдыхая на Рижском взморье, я узнал, что Козин работает в латвийском НКВД заместителем начальника управления. Я позвонил ему по телефону, и, когда назвал себя, он очень обрадовался, что я остался жив. Я зашел к нему, он принял меня очень хорошо, приглашал домой обедать и представлял всем входящим в кабинет как своего бывшего начальника и замнаркома Казахской ССР. Когда Козин из секретарей выдвинулся в руководящие работники, не знаю. В 1956 — 64 годы слышал от А.С.Аллилуевой, что она бывала у Козина, находящегося на пенсии в Москве. Она была рада повидать любого, с кем можно было поговорить о Станиславе Францевиче.)
Когда мы вошли в кабинет начальника внутренней тюрьмы, я увидел там ехавшего со мною в соседнем купе начальника одного из отделений погранохраны Соколова. И я подумал, что начальник НКВД Петропавловска, с которым мы вместе обедали в день моего отъезда в Алма-Ату, видимо, тогда уже знал о предстоящем аресте и Соколов не случайно ехал в соседнем купе и не отходил от меня всю дорогу. Вероятно, ему было поручено сопровождать меня до Алма-Аты.
Начальник тюрьмы, когда мы остались с ним наедине, вызвал вахтеров, которые сорвали с меня орден Красной Звезды, знак «Почетный чекист», знак «Почетный работник милиции», а также петлицы со знаками различия и бросили все это в мусорную корзину. Затем меня отвели в одиночную камеру.
Все это время я был как бы окаменевшим и ни на что не реагировал. Только оставшись в камере один, я пришел в себя и по-настоящему понял весь трагизм своего положения. Со мною началась истерика, закончившаяся страшной головной болью.
Дежурный вахтер, открыв дверь, спросил, что со мною.
Я сказал, что у меня очень болит голова, и попросил дать мне какой-нибудь порошок. Минут через десять ко мне явилась «медицинская помощь» в виде женщины, которая приветствовала меня следующими словами:
— А, вот оно что — враг народа! Теперь понятно, по чему вы меня уволили.
Взглянув на нее, я обомлел, узнав выгнанную мною из милицейской тюрьмы женщину-врача.
— Вон! — вне себя от гнева закричал я, сжимая кулаки. Не будь рядом вахтера, я ударил бы ее, впервые услышав в свой адрес «враг народа», да еще от кого! Эта подлая женщина, ленивый и безответственный работник, оказалась врачом внутренней тюрьмы управления госбезопасности. Видимо, в то время такие «кадры» вполне устраивали госбезопасность, а возможно, и специально подбирались.
В течение двух суток с момента ареста я ничего не ел и не пил. Это не была голодовка, просто ничего не лезло в горло. Мучила одна и та же мысль. Как это я, которого в царское время ожидало нищее, полуголодное существование, всю жизнь боровшийся за партию и советскую власть, поднявшую меня на такую высоту, вдруг оказался в советской тюрьме с позорным клеймом «враг народа».
Вахтеры почти каждые пять минут открывали дверь в камеру, опасаясь, что я покончу жизнь самоубийством, хотя никакой возможности для этого, казалось бы, не было.
К вечеру второго дня ко мне посадили в камеру «арестованного» оперативного работника УГБ. Его спокойный вид и поведение сразу вселили подозрение, что это специально подсаженный человек. Я спросил его, за что он арестован, и он, именуя меня «товарищ замнаркома», пожаловался на несправедливость и рассказал, что на партсобрании сотрудников УГБ он выступил с предложением избирать в Верховный Совет не дряхлых стариков, как народный певец Джамбул, а молодых и среднего возраста людей. После этого выступления его якобы тут же схватили и посадили в камеру.
— Ты что же, меня дураком считаешь? — спросил я его, сразу поняв, что его дело «липа». — Скажи прямо, что тебя посадили ко мне, чтобы я чего-либо с собой не сделал, и сиди спокойно, не трепись.
Парень не выдержал и через несколько минут рассказал, что его действительно посадили ко мне для охраны, но он умолял, чтобы я никому не рассказал о его признании. Конечно, я и не думал его выдавать, так как мне все же было легче сидеть с кем-либо вдвоем, чем одному.
Во внутренней тюрьме Алма-Аты я пробыл четыре дня.
20 июня 1938 года меня из внутренней алма-атинской тюрьмы под конвоем отправили на вокзал, где я увидел в числе развешенных огромных портретов депутатов Верховного Совета Казахской ССР и свои портреты. Их еще не успели снять.
Затем меня посадили в отдельный «столыпинский» арестантский вагон.
Начальник конвоя предупредил меня, что я должен все время сидеть и ни в коем случае на остановках не смотреть в окошко и что если я нарушу это «правило», то меня привяжут к койке.
Все конвоиры, за исключением одного бойца-казаха, обращались со мною очень грубо. Но, несмотря на угрозы и окрики, я нет-нет да и поглядывал в окошко, не вставая с койки. А когда наш поезд прибыл на станцию Куйбышев, я услышал музыку. Это был день выборов в Верховный Совет РСФСР — 22 июня 1938 года. На станции было много народа, мелькали мужчины, женщины, многие из них с букетами цветов, празднично одетые, радостные и веселые... Некоторые искоса поглядывали, проходя мимо, на окна нашего вагона, а какой-то полный мужчина громко сказал кому-то из своих спутников: «Вот, в этом вагоне, наверное, везут врагов народа!»
Вспомнилось, что и моя фамилия в этот день должна была фигурировать в бюллетенях на выборах в депутаты Верховного Совета Казахской ССР, и стало так горько и тяжело, что я не выдержал, бросился ничком на койку и зарыдал.
— Ты чего же это плачешь? Кого это ты разжалобить хочешь? — обращаясь на «ты», сказал начальник конвоя. Надо было раньше думать, когда вредил советской власти.
Что я мог ответить? Ему, как и множеству других, внушили, и он верил, что все арестованные — настоящие враги народа, которые хотели убить Сталина, Ежова или намеревались совершить самые страшные и дикие диверсии. Переубеждать его было бесполезно. Ведь я и сам долгое время верил, что все арестованные в большинстве действительно вредители, правотроцкисты и враги народа, несмотря на то, что последние годы был близок к органам и слышал сомнения в правильности линии органов многих старых чекистов школы Дзержинского. И даже после разговоров с Реденсом, который вполне логично рассуждал, говоря, что не может Ежов без санкции свыше расправляться с членами ЦК и руководящими партийными работинками, я в глубине души продолжал верить в непогрешимость Сталина, которого, как я думал, вводят в заблуждение карьеристы из органов госбезопасности.
В тот период эта беспредельная вера, это не ограниченное ничем доверие к генеральной линии партии и лично к Сталину могли быть поколеблены только у тех коммунистов и советских людей, которые, попав в тюрьму и будучи заклейменными позорным эпитетом «враг народа», имели возможность на своем личном опыте, а также на опыте многих товарищей по несчастью убедиться, что подавляющее большинство «врагов народа» были ни в чем не повинные люди, преданнейшие делу коммунизма, делу партии. И тогда перед всеми нами вставал страшный неразрешимый вопрос: во имя чего? зачем? по чьей злой воле уничтожаются лучшие сыны старой ленинской гвардии, цвет и гордость нашей партии?
ЧАСТЬ II
Камера. Начало следствия. Бутырская тюрьма
28 июня 1938 года меня доставили в комендатуру НКВД СССР и после унизительного обыска поместили в камеру предварительного заключения.
В камере было много народа, в основном, руководящие военные и партийные работники. Обстановка была крайне напряженная. Каждый боялся разговаривать с соседом, считая себя невиновным и подозревая в других настоящих врагов народа или секретных осведомителей.
Большинство арестованных были убеждены, что они взяты по ошибке и, как только об этом узнает Сталин, их сейчас же освободят. Почти все наперебой требовали бумагу, чтобы немедленно писать заявления и жалобы, но вахтеры отвечали грубым отказом, а более настойчивых переводили в карцер и, судя по доносившимся оттуда приглушенным крикам, били.
Все вахтеры, вплоть до раздатчицы пищи, были подобраны из самых махровых и отъявленных мерзавцев. Еще не было известно, виновен или не виновен человек, а они уже грубили всем нам, ругались нецензурными словами, а в случаях малейшего протеста обзывали всех нас «фашистской сволочью» или «врагами народа».
Помню, как один пожилой военачальник, возмущенный подобным обращением и тоном, сказал: «Как вы смеете так обращаться с арестованными? Вас за это будут судить». В ответ на это вахтер, крепко выругавшись, размахнулся и изо всех сил ударил его по лицу, затем втолкнул в камеру и захлопнул дверь.
Все мы были до глубины души оскорблены, но бессильны что-либо предпринять. А камерные старожилы, пробывшие здесь сутки или двое, советовали воздержаться от бурных протестов, поскольку за громкий разговор, а тем более за крик и шум немедленно тащат в карцер, где вахтеры здорово «молотят» нашего брата.
На первых порах произошел смешной случай, давший некоторую разрядку нашему подавленному состоянию.
Ночью в камеру втолкнули «в стельку» пьяного полковника, как мы потом узнали, главного санитарного врача Наркомата обороны СССР. Еле ворочая языком, он пытался заверить нас, что забыл дома курортную путевку и поэтому просит пока принять его без таковой, а находящаяся где-то поблизости его жена может подтвердить, что путевка у него действительно имеется... Как нам ни было в тот момент тяжело и горько, мы не могли не смеяться.
Наутро, когда полковник, выспавшись и отрезвев, огляделся и спросил, где находится, кто-то сначала в шутку ответил, что «в санатории», в который у него есть путевка. Когда же потом ему сказали правду, он, против всех ожиданий, отнюдь не был ошеломлен трагическим известием и принял его с философским спокойствием, заявив, что давно ожидал чего-либо подобного.
Полковник оказался остроумным и жизнерадостным человеком и без конца веселил нас, отвлекая от грустных мыслей разными смешными историями. Когда его спросили, каким образом он умудрился попасть в тюрьму совершенно пьяным, полковник рассказал, что незадолго до его ареста жена уехала на курорт, забрав почти все деньги, так как он страдал запоями. В день ареста, не имея денег на выпивку, он собрал всю имеющуюся в доме стеклянную посуду, сдал ее и взамен купил литр водки. Водку ему по его просьбе перелили в чайник, предусмотрительно захваченный для этой цели, ибо в квартире не осталось ни одной стеклянной емкости.
Минут через десять после его возвращения из магазина к нему пришли с обыском. Квартира у него была большая, обыск продолжался довольно долго, и он попросил разрешения выпить воды. Ему разрешили, и он сел к столу, на котором стоял чайник. Обыскивающие, естественно, не подозревали, что в чайнике может быть водка. И вот, пока шел обыск, полковник прикончил весь литр без закуски и больше ничего уже не помнил. Слушая этот рассказ, мы не могли не смеяться.
В тот же день к вечеру полковника вызвали на допрос. Часа через два он вернулся и рассказал, что двое молодых парней-следователей потребовали, чтобы он признался, что занимался вредительством и шпионской деятельностью.
Когда же он стал отрицать это, его избили и сказали, что он еще пьян, пусть пойдет проспится, а потом они заставят его рассказать все.
И хотя полковник действительно был сильно избит, но рассказывал он об этом с таким юмором, что все мы даже толком не могли себе представить, какой ужас и какие издевательства всех нас ожидают.
По нескольку раз в день из нашей камеры уводили людей и на их место приводили новых арестованных.
Я пробыл в этой камере четверо суток. В ночь на первое июля 1938 года раздался шепот вахтера: «Кто на букву «Ш»?» Я так же шепотом назвал свою фамилию и был вызван с вещами.
Меня перевели во внутреннюю тюрьму НКВД и поместили в камеру, где кроме меня были еще четверо. Из них помню моего ближайшего соседа по койке, скрипача оркестра Большого театра, высокого, с маленькими усиками, очень милого и интеллигентного человека; второй был членом ЦКК ВКП(б) и начальником финансово-экономического управления, третий — старый большевик, а четвертый — подозрительно молодой человек, именующий себя «инженером».
Новые товарищи по камере поинтересовались, кто я такой, и я кратко рассказал о себе. «Инженер» сразу же «успокоил» меня, говоря, что мне не позавидуешь. «Будут бить так же, как и всех нас». Он рассказал, что, боясь подвергнуться пыткам, признался, что является немецким шпионом. Кстати, он очень хорошо владел немецким языком. Этот «инженер» вел себя очень странно. Всем было известно, что за обнаружение у арестованных карандаша, а тем более острорежущих предметов полагался карцер, да к тому же еще могли «приклеить» новую статью. А «инженер» на следующий день потихоньку показал мне спрятанный остро наточенный маленький кусочек железа, заявив, что после допросов, где меня будут обязательно бить, если я захочу, то могу воспользоваться этим предметом и покончить с собой, перерезав вены. Потом я узнал, что эту железку он так же по секрету предлагал поочередно и остальным троим соседям. Кроме того, он предлагал имеющийся у него карандаш, чтобы писать записки на бумаге от папиросных окурков, и обещал показать место в уборной, где можно спрятать эти записки, мол, для передачи своим «однодельцам», которым можно что-либо сообщить или предупредить их.
Мне стало ясно, что «инженер» был внутренним агентом-осведомителем. Давая всем нам советы о самоубийстве, он, возможно, выполнял особое задание, помогая следствию, которое, не располагая никаким фактическим материалом, было бы радо каждому случаю самоубийства, позволявшему валить на мертвеца все что угодно. (Должен оговориться, что это мое предположение.)
От соседей по камере я узнал, что на той койке, куда положили меня, долгое время находился бывший член коллегии ВЧК-ОГПУ, соратник Дзержинского, выдающийся партийный и государственный деятель, член президиума ЦКК, а в последнее время председатель партийной контрольной комиссии Москвы и области Петерс. Его сутками держали на допросах и приводили обратно в камеру сильно избитым. Петерс по натуре был очень замкнутым человеком, таким же оставался и в камере и рассказывал о себе очень мало. Но все же как-то не выдержал и сказал, что не верит, что его допрашивают в органах НКВД, что даже в царских тюрьмах с ним так не обращались. Накануне моего поступления в камеру Петерса вызвали на «суд», проходивший в самом здании НКВД. Приговор ему не объявили, но в тот же день его увели вторично. Уходя, он, видимо, понимал, что это последние часы его жизни, и сказал остающимся:
— Прощайте, товарищи! Если кто-нибудь из вас выйдет на свободу, сообщите ЦК партии, что тут творилось.
Занятную фигуру представлял собою музыкант оркестра Большого театра. Это был культурный, очень добрый и душевный человек. Он рассказал нам, что всю жизнь ничем, кроме музыки и литературы, не интересовался и не занимался, был холостяком. У него была любимая женщина — артистка балета Большого театра. Никогда в жизни он не только не привлекался к ответственности, но даже ни разу не был в милиции. Единственный раз столкнулся с работниками милиции, когда в Москве ввели паспортный режим и работникам Большого театра вручали новые паспорта тут же, в помещении театра.
И вдруг его арестовывают и предъявляют обвинение, что он вместе с другими четырьмя музыкантами оркестра якобы подготавливал террористический акт против члена
Политбюро ЦК ВКП(б) Косиора. На допросах он сначала все это отрицал, но потом не выдержал избиений и пыток и подписал «признание» о том, что хотел убить Косиора. После этого его оставили в покое и недели две не допрашивали, а затем снова вызвали на допрос, и какой-то большой начальник УГБ стал всячески оскорблять его и называть провокатором.
— Если бы ты, сволочь, убил Косиора, мы бы тебя не только не посадили, а орденом наградили бы. Ведь Косиор оказался матерым шпионом, а ты хотел отделаться. Немедленно откажись от своих показаний и расскажи нам правду, как ты и твои дружки собирались убить товарищей Сталина и Ежова, когда они находились в ложе театра на одном из спектаклей.
Музыкант пришел в ужас и отказался писать такие показания. Тогда по звонку начальника явились четверо здоровенных парней с резиновыми дубинками и «обработали» его так, что он несколько раз терял сознание. Его допрос в тот раз продолжался почти сутки. Следователи менялись, а его, избитого, заставляли стоять в углу и требовали, чтобы он повторял за следователем: «Я — сволочь, я — враг, я хотел убить Сталина и Ежова». Наконец, не выдержав, он к утру подписал требуемые показания.
После этого его долгое время на допрос не вызывали. Но вдруг, уже при мне, его снова вызвали на допрос, как оказалось, для уточнения, из какого оружия он должен был стрелять и как это оружие выглядит. А так как он понятия не имел вообще о каком бы то ни было оружии, то он попросил следователя отпустить его, чтобы вспомнить. И, возвратившись в камеру, стал просить нас объяснить ему, как выглядит то или иное оружие. И вот всем нам пришлось помогать ему в выборе оружия для убийства Сталина и Ежова. Мы решили использовать этот случай для проверки, действительно ли следователи способны на такие фальсификации. Я сказал музыканту, чтобы он настаивал на том, что у него был револьвер — браунинг № 2, а описали мы ему внешний вид нагана с барабаном, куда входит 7 пуль.
На следующем допросе музыкант так и сделал, рассказав, что у него был браунинг № 2, и при этом описал, как выглядит наган, причем еще сказал, что оружие ему дал представитель какой-то иностранной разведки, (немецкой или английской, не помню). Следователь, не разобравшись, записал в протокол все, что он сказал, и побежал докладывать об этом начальнику.
Минут через десять он вернулся вместе с начальником, и тот обратился к музыканту:
— Что же вы, мой дорогой, путаете. Ведь вы хотели убить Сталина не из браунинга, а из нагана. Поэтому давайте внесем поправочку. — И поправочка была внесена.
Этот маленький розыгрыш доставил нам всем минутку веселья, но вместе с тем огромную горечь: «Какая липа!»
4 июля открылась дверь, и вахтер тихо справился: «Кто на букву «Ш»?» Я назвал свою фамилию, и он сказал: «Приготовься слегка». Это был термин, обозначавший, что тебя никуда не переводят, а вызывают на допрос. И вот меня повели на первый допрос. Два вахтера сдали меня следователю, молодому брюнету со знаками лейтенанта госбезопасности. (Фамилии его я так и не узнал.) Первыми «приветственными» словами были:
— Ну, фашистская б..., покажи свои руки, обагренные кровью Кирова.
Я был еще новичком, впервые услышал подобное обращение и с возмущением крикнул:
— Как ты смеешь, сопляк, так разговаривать со мною?! Я — заместитель наркома! А что касается моих рук, так они чище и честнее, чем твои!
Следователь вскочил, и не успел я опомниться, как он изо всей силы стукнул меня кулаком по уху. От удара у меня помутилось в голове. Я едва удержался на ногах и схватился за край стола.
— Садись! — крикнул следователь. — И рассказывай о своей шпионской, правотроцкистской и вредительской деятельности.
Минут пятнадцать он меня не трогал, а я сидел и думал: существует ли еще советская власть? Возможно, в стране произошел фашистский переворот? Но над головой следователя висел портрет Сталина.
Как вы можете сидеть под портретом вождя и так издеваться над коммунистом? — спросил я.
Видно, с тобой по-хорошему нельзя, — с раздражением сказал следователь, тут же снял трубку телефона и кого-то вызвал.
Через две-три минуты в комнату вбежали человек пять молодых людей, все в форме, которым следователь сказал:
— Ну, вот вам знаменитый Шрейдер. Этот отъявленный фашист ничего не хочет показывать. Что ж, ребята, когда враг не сдается — его уничтожают... К нему полностью подходят слова Маркса: «Битье определяет сознание».
Этот подлец кощунствовал, оперируя именем Маркса. Молодцы набросились на меня и начали молотить по чему попало. Этот первый «сеанс» продолжался около двух часов.
В перерывах между битьем следователь опять спрашивал, буду ли я давать показания о своей шпионской деятельности, но так как я молчал, битье продолжалось.
Вдруг раздался телефонный звонок, и я услышал следующие слова:
— Ничего! Крепкая сволочь!
А когда говоривший с ним, видимо, спросил, какие принимались меры, следователь ответил:
Все сделали, но пока впустую. И закончил разговор словами:
Слушаюсь, товарищ начальник, сейчас! Положив трубку, он обратился ко мне:
— Учти, б..., что это еще цветочки, ягодки — впереди! Сейчас пойдем к большому начальству.
Меня провели по коридору и ввели в большой, хорошо обставленный кабинет. За столом сидели хорошо знакомый мне бывший начальник одного из отделений ЭКУ ОГПУ центра Ильицкий, бывший начальник ЭКУ ОГПУ Московской области Минаев (при Ежове Минаев стал начальником отдела, которому было поручено следствие по моему делу. Его замещал Ильицкий). Находящегося в кабинете третьего человека я не знал.
С Минаевым я был знаком по работе еще в 1928 — 29 гг. Уже тогда, недолюбливая Минаева, я официально отказался работать под его руководством и выехал из Москвы в Ташкент. Ильицкого же я знал по Средней Азии как начальника Бухарского горотдела ГПУ, а затем начальника отделения ЭКУ ОГПУ, куда его перевел бывший начальник ЭКУ ОГПУ СССР Миронов. Ильицкого почти все работники ЭКУ ненавидели как подхалима и карьериста, а он, пытаясь сгладить острые углы, перед всеми заискивал. Я всегда удивлялся, как этот мерзавец мог втереться в доверие к такому замечательному чекисту и человеку, как Миронов.
Когда меня ввели в кабинет, Ильицкий с пренебрежением сказал:
— Ну, здорово, Шрейдер! Зачем мучаешь следователей? Ты ведь умный человек. Надо все рассказать, а не заставлять нас бить тебя. Имей в виду, о тебе со мной говорил Марком и сказал, что, если ты признаешься в своей шпионской и троцкистской деятельности, тебе дадут двадцать пять лет и сохранят жизнь. А пройдет два-три года, и тебя отпустят. Вот над этим тебе стоит подумать.
— Я не думаю, чтобы наркому и секретарю ЦК нужны были ложные показания. Но если это так необходимо и будет решение ЦК за подписью Сталина: «Предложить члену ВКП(б) Шрейдеру дать ложные показания», — я подпишу все что угодно.
— Ты что, фашист, провоцируешь? — вскочил с места Минаев и стал наносить мне удар за ударом.
— Ах ты мироновский холуй, — заорал Ильицкий. — Ты еще строишь из себя замнаркома! Мы давно знали, что ты — сволочь и фашист.
И они оба стали молотить меня.
— Ты сам мироновский холуй! — не сдержавшись, крикнул я. — Вспомни, как ты прыгал перед ним и даже передо мною...
В это время дверь открылась и вошел мой бывший сослуживец по ЭКУ ОГПУ, а затем по Средней Азии С. Деноткин. Я знал, что в последнее время он был председателем ГПУ в республике немцев Поволжья. В свое время мы с ним очень дружили.
Увидев меня, он страшно побледнел, кивнул мне головой и тут же вышел из комнаты. (Позднее я узнал, что Деноткин вскоре был арестован.)
После ухода Деноткина Минаев тоже вышел из кабинета, а Ильицкий стал спрашивать меня, когда и при каких обстоятельствах я был завербован в японскую, немецкую и польскую разведку. И как я вербовал в разведку Чангули. Я, конечно, все отрицал. Тогда он спросил:
— А своему дружку Чангули ты веришь?
— Верю.
— А как думаешь, может ли он тебя напрасно оговорить?
Я ответил отрицательно. Тогда Ильицкий вынул из папки напечатанный на машинке протокол допроса Чангули в копии и дал мне в руки, сказав:
— Прочти вот это.
С первых же строк я почувствовал, что земля уходит у меня из-под ног, что я куда-то проваливаюсь в бездну и теряю сознание. Я не верил своим глазам. Мой близкий друг Федя Чангули дал показания приблизительно следующего содержания:
«Как-то в разговоре Шрейдер сказал мне, что считает неправильной политику партии в колхозах и что вообще вся политика ЦК партии неверна. Любыми способами надо бороться с политикой, проводимой Сталиным, вплоть до террористических актов против Сталина, Ежова и других руководителей. Поскольку я был агентом японской разведки, то стал прощупывать Шрейдера о возможности его использования в японской разведке. Но при последующем разговоре Шрейдер мне сказал, что является резидентом немецкой и польской разведок, и предложил мне сотрудничать с ним. Я дал согласие с условием, что Шрейдер будет работать и на японскую разведку».
Далее в показаниях было написано:
«В одной из бесед со Шрейдером я ему сообщил, что японская разведка требует организации диверсий и что для этой цели нужны денежные средства. По заданию Шрейдера я должен был вербовать в качестве террористов-диверсантов находящихся в заключении уголовников. Кроме того, мы решили взорвать железнодорожную магистраль Москва — Владивосток, и для этой цели Шрейдер тут же при мне вызвал начальника финотдела УНКВД и милиции Гормана и приказал выдать мне 100 тысяч рублей.
Кроме того, Шрейдер поручил мне завербовать руководящих работников Красноярского лагеря и попытаться вербовать начальников УНКВД всех областей Сибири и Дальнего Востока. Главная задача, которую поставил передо мною Шрейдер, — это добиться создания из уголовного элемента боевых групп, втянув в них не менее 50 тысяч человек. И как только японцы выступят против СССР, эти группы должны были организовать восстание в ряде городов, в том числе — в Москве».
Сейчас уже не могу полностью восстановить в памяти, что там было написано еще, но когда я все это прочитал, то заявил Ильицкому, что никогда в жизни с Чангули не вел никаких разговоров, касающихся колхозов, что все написанное является провокацией или бредом сумасшедшего. И что я немедленно требую очной ставки с Чангули.
— Очная ставка — это дело десятое, а пока что надо сознаваться. А не то будем бить. Ведь ты сам заявил, что веришь Чангули, а сейчас, когда пойман с поличным, вдруг твоя вера в своего лучшего друга куда-то пропала? Не финти и пиши.
— Я категорически отказался от дачи ложных показаний. В это время в кабинет вошел Минаев и спросил Ильицкого:
— Ну что, эта фашистская б... все еще не дает показаний?
— Ты сам фашистская сволочь, — вне себя заорал я.— Ты же лучше других знаешь меня как работника, пре данного делу партии.
— Не смей говорить о партии, фашистский гад, — закричал Минаев, снова изо всей силы ударил меня по лицу, а затем сказал: — Обработайте его так, чтобы он не мог узнать свою собственную задницу.
Тут же появились несколько молодцов. Избиение было настолько сильным, что обратно в камеру я уже идти не мог и меня, окровавленного, в полубессознательном состоянии, отволокли туда вахтеры...
(Больше ни Ильицкого, ни Минаева я никогда не видел. Позднее кто-то из вновь арестованных сотрудников, находившихся вместе со мною в камере, рассказывал, что Ильицкий, боясь ареста, покончил с собой. Хорошо зная, какие пытки и избиения его ожидают, он предусмотрительно, прежде чем застрелиться, выехал на лодке на середину реки в расчете на то, что в случае, если не убьет себя, то утонет. О судьбе Минаева ничего не слыхал.)
К вечеру у меня начался бред, и я потерял сознание. Мои соседи вызвали дежурного вахтера, и через некоторое время явился начальник санитарной части внутренней тюрьмы, которого я ранее знал как фельдшера. С ним была женщина-врач, державшая себя очень тактично.
Очнувшись на мгновение, я слышал, как женщина-врач докладывала начальнику санчасти, что у меня температура
39,6 и что она находит у меня дизентерию, поэтому считает необходимым меня госпитализировать. Но начальник грубо сказал, что со всякой сволочью нечего цацкаться. И я еще около двух суток оставался в камере, претерпевая ужасные мучения, потому что, несмотря на распоряжение женщины-врача, водить меня в случае надобности вахтеры не хотели, а парашей я не хотел пользоваться, боясь заразить товарищей.
6 июля я уже почти целый день был без сознания. Помню только, что еще раз увидел пришедшую женщину-врача и затем очнулся уже в помещении Бутырской тюремной больницы. (Во внутренней тюрьме больницы не было. Как и на чем меня туда перевозили — абсолютно не помню.)
В Бутырской больнице находилось человек четырнадцать. Большинство лежали после сильных избиений, кто с переломанными ребрами, кто с отбитыми почками, легкими и другими внутренними органами. Несколько человек, как и я, лежали с диагнозом «дизентерия», но мне думается, что все мы страдали кровавым поносом не от дизентерии, а от страшных ударов в область желудка и кишечника.
Когда я пришел в себя, первым ко мне подошел один из немногих «ходячих» больных — бывший чекист (кажется, Бадмаев), по национальности монгол. Он рассказал свою историю. В группе, возглавляемой заместителем Ежова Фриновским, он выезжал в Улан-Батор, где было арестовано большое количество руководящих работников Монгольской партии труда, в том числе — несколько министров республики. Нетронутыми оставались Чойболсан и незначительная группа. С его слов, после вооруженного конфликта с Японией на Халкин-Голе НКВД представило в высшие руководящие органы материалы о том, что чуть ли не все члены правительства Монголии являются японскими шпионами. Большинство арестованных были доставлены в Москву, и Бадмаев участвовал при ведении следствия в качестве переводчика в Лефортовской тюрьме. На его глазах били и пытали монгольских руководящих партийных работников. Ежов на оперативном совещании отметил его хорошую работу, и вдруг неожиданно его арестовывают и обвиняют в шпионаже в пользу Японии и в тесной связи с арестованными «врагами народа» — монгольскими товарищами. (Видимо, его решили «убрать» как нежелательного свидетеля следствия.) Его долго били в Лефортовской тюрьме, в результате чего он и попал в больницу.
От Бадмаева я впервые услышал о самых страшных пытках, которым подвергались подследственные в Лефортовской тюрьме. Кстати, почти все находившиеся в палате со мною были доставлены сюда из Лефортовской тюрьмы.
На соседней койке лежал совершенно измученный, не способный шевельнуть ни рукой, ни ногой немец. По-русски он говорил сносно, но с сильным акцентом, поэтому в первые дни я относился к нему настороженно. Но потом мы с ним разговорились и подружились. Это был известный немецкий коммунист, друг и соратник В.И.Ленина Гуго Эберлейн.
Гуго рассказывал мне о своих встречах с В. И. Лениным и Надеждой Константиновной, о большой любви к ним. Он очень ругал немецких троцкистов, фамилии которых уже не помню. С большой теплотой Эберлейн отзывался о Тельмане и надеялся на то, что если Вильгельм Пик не арестован, то он его выручит, хотя он больше склонен был думать, что Пик также арестован.
Эберлейн говорил, что почти все виднейшие работники Коминтерна арестованы и подвергаются нечеловеческим пыткам. Всех их, в том числе и его, обвиняют в шпионаже.
От него же я узнал, что несколько дней тому назад из этой же палаты куда-то увели Бела Куна, который был настолько избит и изувечен, что на нем не оставалось ни одного живого места. Его заставили подписать какие-то страшные ложные показания на себя и на ряд других венгерских коммунистов, находящихся в эмиграции в СССР, а также на некоторых выдающихся деятелей международного движения.
Гуго Эберлейн был убежден, что Сталин о пытках и фальсификациях ничего не знает и что все это авантюра и провокация со стороны руководящих работников НКВД.
Через стену нашей камеры, а также, когда нас выводили в туалет, через коридор был слышен детский плач, раздававшийся в одной из соседних камер. От кого-то из «старожилов» мы узнали, что там была камера, где содержались заключенные женщины-роженицы.
Мне пришлось пролежать в больничной камере 10 — 12 дней. За это время мы постепенно поближе познакомились с соседями. Кроме доктора Кушнера (о котором несколько позднее), все тринадцать человек были старыми большевиками, воинами гражданской войны, а некоторые участниками трех революций.
Особенно ярко запечатлелся в моей памяти бледный, как смерть, и худой, как скелет, брюнет с красивой шевелюрой и черными усиками, потерявший на гражданской войне ногу и еле передвигавшийся по камере на костылях. Он был уже приговорен к расстрелу Военной коллегией Верховного суда под председательством Матулевича и в больнице находился на время подачи им апелляции. Однажды ночью за ним пришли, и, несмотря на то, что он лежал больной, с очень высокой температурой, его на носилках вынесли из палаты.
— Прощайте, товарищи! — сказал он, понимая, так же как поняли и все мы, что его несут на расстрел.
Другой старый большевик, по национальности латыш, больной туберкулезом, рассказывал, что во время допросов его, видимо, специально били по легким. Теперь он лежал пластом, все время харкал кровью и, по существу, не получая никакой помощи и даже приличного питания, медленно умирал.
К сожалению, фамилии большинства своих тогдашних соседей я не помню. Единственным знакомым мне ранее работником был бывший начальник санчасти ВЧК-ОГПУ-НКВД, большой друг Ф.Э.Дзержинского доктор Кушнер, в то время уже старик. Все чекисты знали его как строгого, но доброго и отзывчивого врача. Несмотря на то, что он никогда не был на оперативной работе, ему за плодотворную медицинскую деятельность было присвоено звание «Почетного чекиста».
Кушнер рассказал мне, что его били и пытали, требуя показаний о шпионской деятельности совместно с Ягодой и его сподвижниками. Самым тяжелым и оскорбительным для Кушнера, по его же словам, было хамское отношение к заключенным и к нему самому медицинского персонала, на воспитание которого в самых лучших традициях он положил столько сил. Когда во время избиений с Кушнером стало дурно, в кабинет к следователю вызвали его бывшего подчиненного, фельдшера внутренней тюрьмы
ГПУ. Посмотрев на Кушнера, он ледяным тоном произнес: «Ничего серьезного нет, можно продолжать допрос», — повернулся и ушел. Через два-три дня Кушнера увели из больничной палаты, и больше я никогда и ничего о нем не слышал.
Доктора Кушнера не зря более всего угнетала гнусная система «медицинского» обслуживания заключенных, введенная в тот период как закон для всех врачей, фельдшеров и медсестер, состоявших, в основном, из вольнонаемных. Наша больничная палата была обычной камерой с решетками на окнах; дверь с глазком, за которой круглосуточно дежурили вахтеры и которую почти каждые 5—10 минут открывали и оглядывали, все ли в порядке. В камере находилась параша, и воздух был наполнен невыносимым зловонием, так как страдавшие дизентерией, кровавым поносом и другими болезнями тут же оправлялись.
Больничная диета состояла из обычной тюремной баланды и хлеба, но иногда для «поправки здоровья» дизентерийникам, туберкулезникам и прочим тяжелым больным давали по куску селедки, по две-три холодные картофелины и кипяток.
«Процедуры» назначались, главным образом, по методам лечения бравого солдата Швейка: почти всем больным ставились клизмы и делалось промывание желудка, причем эта операция проводилась в стоячем положении в тамбуре туалетной, где не было места даже поставить табуретку.
Во время всех процедур, а также обходов больных врачей и медсестер сопровождали вахтеры, от которых обычно зависел «окончательный диагноз» даже в тех случаях, когда обход производил начальник санчасти — врач в чине полковника.
Наиболее часто независимо от действительного состояния больного вахтер безапелляционно заявлял: «Враг — симулянт!» Не знаю уж, имели ли вахтеры какие-либо указания от следователей в отношении отдельных арестованных или это была общая установка, но, по-видимому, считалось, что «бдительное око» вахтера лучше подметит, действительно ли арестованный лежит пластом или все же имеет силы встать на ноги.
На второй день после моего поступления в больницу в палату вошла высокая красивая женщина лет тридцати в сопровождении сестры и вахтера.
— Что с вами? — резким тоном спросила она, подойдя к моей койке.
Я сказал, что у меня понос с кровью и выпадение кишки. А затем начал рассказывать, что меня сильно били, и хотел показать следы побоев.
— Знаем вас, провокаторов! — не дослушав меня, раздраженно выкрикнула она. — Сам упал с лестницы, а теперь клевещешь на следователей. Ничего из этого не выйдет. — И тут же, обращаясь к сестре, дала указание поставить мне клизму.
— Вы, по-видимому, не врач, а вахтер, — не сдержавшись, сказал я. — Вы должны были бы хоть выслушать меня.
— Если тебе здесь не нравится, — с издевкой изрекла она, — попросим товарища вахтера перевести тебя в карцер. Там ты быстро поправишься.
(Дорого бы я дал, чтобы узнать, где сейчас находится эта женщина-врач.)
Кажется, на десятый или одиннадцатый день моего пребывания в Бутырской больнице был очередной обход начальника санчасти с его подпевалами. Я чувствовал себя еще очень плохо, температура колебалась от 37,5 градусов, кровавый понос не прекращался, были сильные боли во всем теле. Однако «врачи» нашли возможным выписать меня и еще нескольких тяжелых больных в общие камеры. И вот меня перевели в камеру № 106.
Когда открылась дверь, я обомлел, так как все помещение было до отказа забито людьми. Вахтер в полном смысле слова втиснул меня в камеру и еле смог закрыть за мною дверь. (В нормальных условиях эта камера была рассчитана на 12— 14 человек, но в тот момент там находилось около 90 человек.)
Был конец июля, на улицах стояла невыносимая жара, а здесь, в камере, при таком скоплении народа, естественно, была настоящая душегубка. К тому же в тот момент камера была за что-то оштрафована, а одним из методов штрафа было запрещение открывать оконные фрамуги. Если еще учесть, что почти 90 человек оправлялись в стоящую тут же парашу, то можно представить себе, что по сравнению с этой камерой Дантов ад являлся настоящим раем.
Когда я немножко осмотрелся и протиснулся поближе к середине, ко мне вдруг бросился высокий и худой, как скелет, молодой парень, в котором я, присмотревшись, едва узнал моего друга, давшего на меня показания, Федю Чангули.
— Дядя Миша! — обрадованно приветствовал он меня.
— Провокатор! — с возмущением выкрикнул я. — Как ты мог так меня оклеветать и оговорить? — и, не выдержав, зарыдал.
Федя пытался мне что-то объяснить и рассказать, как все это произошло, но я уже не мог ничего слушать — со мною началась истерика.
Другие арестованные стали меня успокаивать и расспрашивать, в чем дело. Я рассказал, что следователь на допросе показал мне письменные показания на меня, данные Чангули, о том, что я якобы шпион. Вся камера была возмущена, и я почувствовал, что еще мгновение, все набросятся на Федю и могут разорвать его в клочья.
Но среди арестованных оказался летчик-комбриг, опытный, спокойный и рассудительный товарищ, староста камеры. Он призвал всех к порядку и попросил, чтобы Чангули рассказал, в чем дело.
Вместо рассказа Федя быстро сбросил с себя гимнастерку и брюки, и мы увидели страшные кровоточащие раны на его теле. Всем стало понятно, какими методами были вырваны у него эти ложные показания.
Федя рассказал, что был арестован в Красноярске, где успел проработать около двух месяцев в должности помощника начальника управления лагерем. В момент ареста один из товарищей согласился (с риском для себя) отправить Федины открытки, одну из которых я получил в Алма-Ате. Из Красноярска его по этапу доставили в Иваново. С первого же часа его прибытия начались страшные избиения и пытки. Причем среди палачей особенно изощрялись начальник УНКВД Валентин Журавлев, его помощник Нарейко, начальник следственной части Рязанцев, следователи Волков, Цирулев и другие. По рассказам Феди, в течение 10 суток его не выпускали из кабинета: следователи менялись, а он от избиений неоднократно терял сознание. Садист Журавлев применял к Феде, видимо, им самим изобретенную пытку под названием «утка»: Феде закидывали за спину и связывали руки и ноги, затем двое помощников разжимали Феде зубы, и Журавлев мочился ему в рот. После этого у Феди, естественно, начиналась рвота. Доведя его почти до невменяемого состояния, его бросили в карцер. И в один из моментов, когда он был почти без сознания, ему подсунули на подпись какую-то бумагу, которую обманным путем заставили подписать. Видимо, это и были показания на меня.
Через день его снова вызвали к Журавлеву «для уточнения» подписанных им показаний. Он потребовал, чтобы ему прочли то, что он подписал, а когда услышал текст, категорически отказался от своих показаний. Тогда началась новая серия пыток.
После долгих повторных пыток Чангули стал «сочинять» разные показания, выставляя себя крупным шпионом, имеющим связь с руководящими работниками НКВД центра. Таким образом, он добился перевода в Москву, где рассчитывал доказать свою невиновность и добиться правды. Будучи доставлен в Москву, он тут же отказался от всех своих показаний, данных в Иванове под пытками. Но московские следователи не сочли нужным с ним возиться и отправили его обратно в Иваново, где он получил новую порцию пыток, которых опять не смог выдержать, дал более «важные показания» и вторично был отправлен в Москву. И вот в этот момент мы с ним и встретились в камере Бутырской тюрьмы.
После страшного рассказа Феди я и товарищи по камере поняли, что не имеем права в чем-либо его упрекать. Но перед нами сразу встал вопрос: зачем нас поместили в одну камеру? Ошибка ли это или сознательная провокация?
Мы решили, что мне надо немедленно попроситься на допрос и заявить, что меня посадили с человеком, «уличающим меня в шпионаже», и что я считаю это недопустимым.
Говорили мы громко, и, конечно, все в камере слышали этот разговор. Мы оба были уверены, что в камере находятся подсаженные провокаторы, которые, возможно, получили задание следить за нами. Я постучал в дверь и попросил вахтера доложить следователю, чтобы меня вызвали на допрос. Пока я ожидал вызова, Федя познакомил меня со своими соседями. (Недавно, в 1964 или 1965 году, Чангули напомнил мне фамилии некоторых товарищей, находившихся тогда с ним в камере.) Это были: начальник Главспецлеса Ершов; депутат Верхсовета СССР, начальник Донбассугля, в прошлом кадровый шахтер Фесенко; бывший секретарь Мордовского обкома КПСС, член комитета обороны при наступлении Юденича на Петроград, к моменту ареста заведующий сектором ЦК ВКП(б) Пелипен П.П.; главный инженер Главспецстали Наркомтяжпрома, награжденный двумя орденами Ленина, Субботин А. А.; чекист из ДТО Западной дороги Коган и др. Насколько помню, в этой камере сидели большое количество руководящих военных и партийных работников, несколько человек из группы авиаконструктора Туполева и какие-то крупные химики.
К вечеру меня вызвали к следователю.
Впервые я попал в знаменитый следственный корпус Бутырской тюрьмы. Помещение это на верхнем этаже напоминало большой, хорошо освещенный зал театрального фойе. Справа и слева вдоль зала было множество дверей в кабинеты следователей.
Еще не дойдя до зала, я услыхал страшные крики истязаемых мужчин и женщин. По залу в это время прохаживались вахтеры и «отдыхающие» следователи с самодовольными мордами.
Меня ввели в один из кабинетов, где находился следователь лет тридцати пяти, брюнет, выше среднего роста, по фамилии, как я потом узнал, Алешинский. Ранее я никогда его не видел, но из разговора с ним понял, что он переведен в Москву с Украины.
Этот следователь был единственным светлым пятном в истории моего более чем двухлетнего нахождения под следствием. Пригласив меня сесть, он вежливо спросил, почему я просился на допрос. Я рассказал ему, что меня посадили в одну камеру с моим однодельцем Чангули, давшим на меня ложные показания. Он был поражен и тут же, сняв трубку, справился у кого-то, как это могло случиться. Не знаю, что ему ответили, но, видимо, распорядились перевести меня в другую камеру.
Затем Алешинский стал говорить со мною. Он не кричал, не оскорблял меня, не ругался, а спокойно спрашивал о сути дела. Я стал рассказывать ему подробно о допросе у Ильицкого и Минаева, о пытках, о больничной обстановке.
Вдруг из соседнего кабинета раздался страшный женский крик. Мне показалось, что голос похож на голос моей жены: в те дни я был уверен, что она тоже арестована.
Алешинский, видимо, понял меня и, не дожидаясь моего вопроса, сказал:
— Насчет вашей жены, а также Миши и Вити не беспокойтесь.
Конечно, имена детей он мог узнать из лежащего перед ним следственного дела, в котором находилась и анкета, но думаю, что он знал о том, что жена не арестована.
Затем он произнес крайне удивившие меня слова:
— Михаил Павлович, я знаю, что ни Чангули, ни вы ни в чем не виноваты, но, к сожалению, вам не избежать всего того, что происходит с другими. Если я смогу, то помогу. А пока давайте так... — Тут он перешел на полу шепот. — Я буду стучать по столу кулаками, а вы кричите, будто бы я вас бью. Другого выхода из положения у меня нет.
Я был благодарен и тронут до слез. И с готовностью начал периодически инсценировать крик избиваемого.
Приблизительно через полчаса крика следователь позвонил и попросил принести два стакана чаю с пирожными. Когда девушка-буфетчица принесла чай, он при ней грубо сказал мне:
— Ну, пей, а то еще подохнешь.
Как только за буфетчицей закрылась дверь, мы тихо и мирно выпили с ним чаю. Он открыл и положил передо мною пачку папирос «Казбек» и, когда «допрос» был окончен, дал мне с собою штук десять папирос, предупредив вахтера:
— Я дал ему папиросы, так что не отбирайте.
На этом мы расстались. Больше я никогда этого следователя не видел и ничего не слышал о нем. Но думаю, что, скорее всего, его постигла участь многих честных коммунистов-чекистов, которые не могли участвовать в грязной работе и были уничтожены.
Меня перевели в другую камеру, и через некоторое время принесли туда мои вещи. Эта камера также была набита до отказа народом, и мне, как новенькому, досталось место в углу, у самой параши. Здесь было человек 80 при норме 12 — 15. По ночам приходилось размещаться «валетами» — под нарами и на нарах. Проход между нарами на ночь закрывали досками, а под досками и на досках впритирку лежали человеческие тела.
В первую же ночь я несколько раз был окроплен ночным «душем», так как арестованным было неудобно подходить к параше и невольно происходили срывы.
В этой камере, равно как и во всех предыдущих и последующих, находились главным образом крупные партийные, советские и хозяйственные работники. Среди них бывший начальник Главпива Фомин, член партии с 1912 года, потерявший ногу в период гражданской войны.
При мне его несколько раз вызывали на допрос, причем, как только вахтер предлагал ему «собраться слегка», он начинал отстегивать ремни своего ножного протеза.
На мой недоуменный вопрос, зачем он это делает, Фомин пояснил, что каждый раз следователь бьет его этим протезом, а если он, уже сидя на допросе, медленно расстегивает ремни, то его бьют сильнее. Поэтому он заранее, в камере, подготавливает эту операцию.
Фомин держался в камере с достоинством и с большим юмором рассказывал, как следователь на допросах, колотя его протезом, говорит: «У тебя, фашистская сволочь, нет оснований жаловаться на то, что мы тебя бьем. Ведь ты сам бьешь себя собственной ногой». Следователь считал свою выдумку настолько остроумной, что приглашал своих коллег-следователей из соседних кабинетов посмотреть на «цирковой номер», как подследственный избивается собственной ногой. Фомину, когда водили на допрос, давали палку, которую при возвращении в камеру отнимали: тюремная администрация опасалась оставлять в руках заключенного «орудие» возможных «террористических актов» против администрации тюрьмы. Фомин рассказывал, что однажды следователь в присутствии еще трех или четырех палачей хотел продемонстрировать, как он поставит Фомина на выстойку. (В то время это был один из распространеннейших методов пытки, когда подследственного по нескольку суток заставляли стоять, пока у него не опухали ноги и он терял сознание, в то время как следователи все время менялись.) Следователь подвел Фомина к стенке и вырвал у него палку. Продержавшись на одной ноге несколько секунд, Фомин, высокий и довольно тучный, всей тяжестью рухнул на пол, сильно разбив голову. При этом следователь и его подручные покатывались от хохота.
(Незадолго до XX съезда КПСС я встретил Фомина в районе Кропоткинской улицы. Оказалось, что он отсидел в лагере около 17 лет.)
Сидел в нашей камере и крупный военный конструктор Файнциммер, изобретший какое-то новое оружие, уже испытывавшееся на полигонах. Его обвиняли во вредительстве. Файнциммер был безмерно оскорблен и обижен арестом, нелепыми обвинениями и битьем. Он очень нервничал, возмущался и психовал, болезненно реагируя даже на самые мелкие будничные неприятности и неудобства.
— Зато его приятель — литератор, кажется, Книпович — был большим оптимистом и все время успокаивал Файнциммера, меня и других арестованных, говоря, что все на свете пустяки, и если как следует вдуматься, то ничего страшного нет. «Бьют? Ну и пускай бьют! — с философским юмором, невозмутимо доказывал он всем нам. — Расстреляют? Ну и пусть расстреляют. Все это несущественно».
Помню одного руководящего работника Наркомпищепрома (кажется, главного инженера), который под страшными пытками в числе других оклеветал как «врага народа» А. И. Микояна. Оправившись после пыток и избиений, он ужасно терзался своим вынужденным предательством и все время пытался покончить жизнь самоубийством. Несколько раз мы вытаскивали его из-под нар, где он пытался задушить себя. Но покончить с собой в тех условиях было крайне трудно, даже невозможно, так как в каждой камере сидели наблюдатели и провокаторы, да и стража была сверхбдительна.
Кстати сказать, почти в каждой камере были своего рода рационализаторы и изобретатели методов самоубийства. Некоторые рекомендовали удушать себя связанными носовыми платками или другими тряпками, что вряд ли было выполнимо, и лично я подобных случаев «удачного удушения» не наблюдал.
Острые предметы, естественно, в камерах отсутствовали. Ложки давали только деревянные, а алюминиевые миски приносили на короткое время обеда и ужина, после чего тут же отбирали по счету.
Еще один товарищ по камере — секретарь Серпуховского горкома ВКГТ(б) — рассказывал, что во время избиений следователи требовали от него дачи ложных показаний не только на себя и ближайших сослуживцев, но и на бывшего секретаря МГК Н. С. Хрущева, который якобы так же участвовал в их «заговоре» или даже возглавлял их контрреволюционную правотроцкистскую организацию.
Как и в предыдущей камере, где я встретился с Чангули, здесь находилась группа авиаконструкторов, подчиненных Туполеву. Они рассказывали, что их обвиняют во вредительстве и в связях с иностранными разведками. (Один из них занимался вооружением самолетов.) В подобных же «злодеяниях» обвинялась и группа ученых-химиков.
Вскоре авиаконструкторов и химиков от нас увели, но из последних допросов, о которых они рассказывали, мы знали, что их подготавливали для работы в особых конструкторских бюро, т.е. в заключении. К сожалению, не помню фамилии одного известного ученого-химика, который наотрез отказывался работать в ОКБ, заявив какому-то большому начальству, что «в кандалах наука невозможна!». Он настаивал на освобождении, как ни в чем не виновный, или, заявлял он, пусть будет смерть. Чем закончилась его борьба со следователями, не знаю.
Некоторые интеллигентные люди крайне болезненно реагировали на следовательскую нецензурную брань. С нами в камере сидел профессор, уже старик. Его вызвали чуть ли не на первый допрос, и приблизительно через час-два он вернулся в приподнятом настроении.
— Как дела? — бросились к нему с расспросами.
— Слава богу, избавился! — усмехнувшись, сказал он. Я подписал, что являюсь шпионом.
— Зачем вы это сделали? Вас били? — посыпались вопросы.
— Нет, не били! — ответил он.
— Так зачем же вы подписали на себя напраслину?! Разве вы шпион?
— Конечно, нет, — ответил профессор и тут же обратился к кому-то из нас: — Товарищи, дайте кто-нибудь папиросу... Никогда в жизни не курил, но сейчас мне надо закурить.
Он взял папиросу, сделал затяжку, закашлялся, стал вытирать со лба выступивший пот, вздохнул и стал рассказывать:
— Меня встретили очень любезно двое юношей, лет по двадцать — двадцать два, не больше, каждому. И один из них сразу же обратился ко мне, как к родному отцу, на «ты»: «Ну что, долго будешь тянуть волынку? Рассказывай о своей шпионской работе!» Я сказал им, что я русский, советский человек, никогда шпионажем не занимался. Тогда второй юноша стукнул кулаком по столу и назвал меня... — Тут старик сделал паузу, не будучи в силах произнести следовательскую заборную пакость, и, наконец подобрав нужные слова, закончил: — ...назвал меня... старым женским половым органом. Услышав такое омерзительное обращение, я им сказал: «Молодые люди, пожалуйста, не надо так выражаться. Избавьте меня от таких выражений. Я подпишу вам все что угодно...» Один из них хлопнул меня по плечу и похвалил, сказав: «Вот и молодец!» Они написали, что я кем-то был завербован в какую-то разведку, не то немецкую, не то французскую или в обе вместе. Затем прочитали мне текст, и я подписал. После чего, представьте, оба вежливо пожали мне руку... И вот я здесь...
Мы были ошеломлены, возмущены, но никто не смог осуждать поведения ученого, так как все мы уже знали о тех страшных пытках, которые в то время применялись, и, может быть, старик по-своему был прав, что предпочел избежать пыток. Расстреляли ли его как шпиона или нет, мне неизвестно.
Среди подследственных в камере находились пятнадцатилетние ребята, один из которых, кажется, по фамилии Зархи, был сыном работника газеты «Известия». Его обвиняли в том, что он состоял в группе ребят, сформировавших организацию «Месть за отцов». Они от руки писали какие-то листовки, призывающие к борьбе с беззакониями, арестами и пытками. Возглавлял эту группу шестнадцатилетний юноша без ноги, с которым я позднее встретился в другой камере.
Вспоминая о них теперь, я должен признаться, что они являлись подлинными борцами против произвола и беззакония и держались в тюрьме довольно мужественно.
Они могли послужить хорошим примером для многих из нас.
В нашей камере сидели два дряхлых старика еврея, каждому лет под восемьдесят. Из их рассказа мы узнали, что они проживали в Кунцеве, под Москвой, где не было синагоги, а для молений, которые полагалось проводить трижды в сутки, утром, днем и вечером, требовалось обязательное присутствие одновременно не менее десяти человек. (По еврейским религиозным законам только в этом случае молитва доходит до бога.) И вот старики каждый раз собирались у кого-то на квартире, где аккуратно молились, В один прекрасный день Кунцевский районный отдел НКВД всех их арестовал и предъявил им обвинение в шпионаже и чуть ли не в связи с римским папой. С их слов, самому молодому из арестованных было семьдесят три года. Их положение в тюрьме было особенно плачевным: будучи фанатично религиозными, они, по существующим правилам, не могли есть ничего «трефного» и питались одним хлебом и кипятком, так как тюремная баланда и каша являлись «трефными» блюдами. Отчасти их выручала лавочка, и они добавляли к хлебу лук. Маргарин и сушки им также по закону есть было нельзя.
Запомнился рассказ одного из этих стариков, как его допрашивал следователь в Кунцевском районном отделе НКВД.
— Ну, рассказывай, шпион, как ты хотел совершить переворот в Москве?
Старик, сразу не поняв вопрос следователя, стал рассказывать ему, что какой-то из его родственников умер от заворота кишок.
— Мы тебе не только кишки вывернем, но и голову оторвем, если ты сейчас же не подпишешь эту бумагу,— закричал следователь. Он все время требовал, чтобы старик рассказал, как они три раза в день устраивали собрания террористического центра с целью подготовки убийства ехавших на дачу Сталина, Ежова и других членов Полит бюро и ЦК. Старик был настолько малограмотным, что не понимал даже слова «террор». И только в Бутырской тюрьме, у другого следователя, он узнал, что в Кунцеве, подписав «свои показания», тем самым признал, что он махровый террорист.
В этой же камере сидел какой-то польский коммунист, арестованный в Иркутске, который, по его рассказам, дал показания, что он являлся польским шпионом и что в его задачу входило не более и не менее, как «присоединить Иркутск к Польше».
Как-то дверь камеры отворилась, и в нее вошел человек средних лет в военной форме. Оглядевшись, он представился:
— Бывший заместитель легендарного командира Чапаева — Кутяков, ныне фашистская б... — он с отчаянием снял и бросил об пол свою шапку.
Почти каждый день состав арестованных в камере менялся. Того или иного уводили «с вещами», и бывшие «новички» постепенно передвигались от параши поближе к самому удобному месту — возле окна.
На третий или четвертый день я спал уже в середине камеры на нарах «валетом» с каким-то грязным, толстым и лохматым человеком, внешне похожим на кулака и не скрывающим своей ненависти к советскому строю вообще и к нам, коммунистам, в частности. Но очередность и справедливость были превыше всего, и я вынужден был спать бок о бок с ним, причем теснота была такая, что все поворачивались на другой бок по общей команде. Никаких матрацев или подстилок не было, спали на голых досках.
Подследственные, которым родственники передавали деньги (разрешалось передавать не более 50 руб. в месяц — на теперешний счет 5 руб.) или у которых были деньги, взятые у них при обыске, имели право три раза в месяц покупать кое-какие продукты в тюремной лавке: 250 граммов маргарина, 250 граммов самой дешевой колбасы, столько же сахара, лук, чеснок, сушки, папиросы и белый батон. Конечно, при разделе этой нормы на 10 дней получались мизерные порции.
Примерно половина заключенных денег не имела (некоторые были привезены из других городов, многим передачи были запрещены по распоряжению следователей), но почти во всех камерах существовала нелегальная лавочная комиссия, которая поровну распределяла все продукты, приобретенные частью заключенных. Администрация тюрьмы строго наказывала камеру за эту комиссию взаимопомощи, но почти всегда и везде эта комиссия существовала и продукты и папиросы распределялись поровну. Кроме того, оставлялся «неприкосновенный запас» для возвращающихся после тяжелых (иногда двух-трех-суточных и даже более продолжительных) допросов.
Помню, какое страшное впечатление произвел на меня один старый профессор, возвратившийся в камеру после нескольких суток «выстойки». Ноги у профессора были огромной толщины, как у больного слоновой болезнью. Вахтеры втолкнули его в камеру, и он рухнул на руки товарищей. Опытные камерные старожилы сейчас же положили его на спину, поддерживая ноги в вертикальном положении, одновременно всовывая ему в рот маленькие кусочки сахара, сушек и т.п. На меня это зрелище произвело столь тягостное впечатление, что позднее, когда мои следователи пытались поставить меня «на стойку», я немедленно садился на пол. Правда, меня за это начинали избивать, но тем не менее стоять я ни за что не хотел. Тем арестованным, которые имели дело с любителями применять «выстойку», при уходе на допрос старались сунуть в карман сахар, сушки или какие-либо другие питательные вещи.
Таким же образом поддерживали товарищей, возвращающихся после отсидки в карцере, когда они в полном смысле слова бывали полумертвыми.
Днем спать в камерах не разрешалось, а ночью не давали спать бесконечные вызовы на допрос и возвращения с допросов. Плюс к тому всю ночь горел яркий электрический свет. Если же арестованный укрывал своими лохмотьями голову, то немедленно с шумом отворялась дверь и вахтер кричал, чтобы спали с непокрытой головой. По-видимому, они боялись, что, закрывшись одеждой и тряпьем, арестованные могут чем-либо удушить себя.
Каждые десять дней арестованным выдавали книги. Библиотека в Бутырской тюрьме была очень большая и хорошая, и многим из нас, в том числе и мне, удалось прочитать в периоды иногда многодневных перерывов между допросами чуть ли не полные собрания сочинений ряда русских и зарубежных классиков. Правда, довольно часто мы бывали лишены книг, когда всю камеру за что-либо наказывали. Наказания полагались за громкий разговор или смех, за игру в самодельные (из хлебного мякиша или спичек) шахматы или шашки и за многие другие «недопустимые проступки».
Наказанную камеру лишали прогулок на десять дней, лавочки — на тот же срок Но самым страшным наказанием было запрещение в жаркие летние дни открывать оконные фрамуги.
Когда наказаний не было, нас ежедневно выводили на прогулку на двадцать минут на маленький тюремный двор, окруженный с четырех сторон корпусами тюрьмы. Разговаривать друг с другом категорически запрещалось.
Однажды во время прогулки на тюремном дворике, у которого с четвертой стороны был не тюремный корпус, а просто высокая стена (видимо, граничащая с жилым домом сотрудников НКВД), я услышал детский плач, раздававшийся из-за стены. От воспоминаний о своих малышах заныло сердце.
— Как похож голос на голоса моих ребят, — сказал я своему напарнику.
В тот же миг ко мне подскочил вахтер и угрожающим шепотом спросил:
— Фамилия?
— Микитенко, — соврал я.
Вахтер отошел, но через два часа после возвращения с прогулки открылась дверь камеры и в сопровождении вахтеров вошел помощник начальника тюрьмы, известный всем бутырским заключенным как садист, получивший от Ежова за свои зверства медаль. При его появлении все встали, и он прочел приказ:
— За нарушение режима во время прогулки аресто ванного Шрейдера заключить в карцер на трое суток.
Я был удивлен четкостью работы тюремной администрации, тем, как они быстро «расшифровали» меня, назвавшегося несуществующей в нашей камере фамилией. А ведь нас было более 80 человек. Меня тут же вывели и отправили в карцер.
Карцеры находились в глубоком подвале Бутырской тюрьмы. Это были каменные мешки, рассчитанные каждый на одного человека, который не мог даже выпрямиться во весь рост. Можно было только сидеть на параше в полусогнутом состоянии. Стены были мокрые от подпочвенных вод.
Здесь арестованный находился в полном распоряжении дежурных вахтеров. При малейшем протесте или крике они затыкали рот и жестоко избивали. Да и просто могли убить. Кроме того, пребывание в течение трех суток в не отапливаемом каменном подвале грозило жестокой простудой. Мне повезло: дело было летом, и температура в подвале была не минусовая. Из карцера обычно арестованных выносили, вернее, тащили обратно в камеры волоком.
Большинство товарищей по камере чутко относились к возвращающимся из карцера, старались помочь, чем могли, и, главное, делились продуктами. Правда, отзывчивость и щедрость товарищей нередко навлекали наказание на них самих: находящиеся в камере стукачи немедленно доносили тюремному начальству обо всем, что делалось. Но нужно сказать, что группы «взаимопомощи» в камерах состояли часто из большевиков — в прошлом подпольщиков, которые сразу же расшифровывали большинство стукачей и делали все необходимое так организованно и ловко, что не к чему было придраться.
Как правило, в камерах Бутырской тюрьмы, где содержались политические, уголовников не было, но однажды к нам привели уголовника, обвинявшегося кроме уголовщины в терроре. Он рассказал нам, что до этого сидел в камерах на нижних этажах, где содержались уголовники (там же были камеры и для жен «врагов народа»). С его слов получалось, что в камерах для уголовников условия были гораздо лучшими, режим мягче, и он ругал нас: «Из-за вас, проклятые троцкисты, враги народа, и я попал в вашу душегубку».
В разных камерах, где мне приходилось быть, сидели и немцы. Некоторые из них были явными фашистами, а некоторые — коммунистами. Между ними почти ежедневно происходили стычки, доходившие до драк. Немцы-фашисты злорадствовали, что немцы-коммунисты сидят в советской тюрьме, и радовались, что они скоро поедут к себе, в фатерланд. К немцам-фашистам в тюрьму приходили представители немецкого посольства и вызывали их поочередно на свидания, после чего следователь объявил им, что все они вскоре будут вывезены в Германию.
К немцам-коммунистам представитель посольства не приходил. Они без конца писали письма на имя Сталина, доказывая свою невиновность. Однажды следователь сообщил им, что все они тоже будут высланы в Германию. Тогда немцы-коммунисты пришли в ужас и снова начали спешно писать заявления Сталину, умоляя лучше расстрелять их здесь, но только не высылать в гитлеровскую Германию. (Много лет спустя, уже после Отечественной войны и смерти Сталина, я узнал от жены одного немецкого коммуниста, что многие немецкие коммунисты действительно в тот период были высланы в гитлеровскую Германию и что часть из них чудом уцелела в немецких концентрационных лагерях, и они потом рассказывали, что Гитлер в пропагандистских целях использовал факты их высылки из Советского Союза, подчеркивая, как советские коммунисты расправляются со своими «братьями» — немецкими коммунистами.)
После единственного допроса в Бутырской следственной тюрьме следователем Алешинским меня недели полторы или две не беспокоили. И вот в августе меня снова вызвали на допрос, и, когда ввели в кабинет, я с изумлением увидел в роли следователя и начальника хорошо знакомого мне по ЭКУ Москвы Сашу Чернова, которого я когда-то имел неосторожность рекомендовать на работу в органы.
— Ну, троцкистская сволочь! Будем говорить или будем бить? — обратился он ко мне.
— Ты же, Саша, хорошо меня знаешь... — попытался было заговорить я, но он не дал мне закончить фразу и изо всей силы ударил кулаком по голове.
У меня помутилось в глазах, но в следующее мгновение от гнева и отчаяния я испытал в душе то же чувство, которое в свое время испытал Тарас Бульба. «Ах ты подлец,— подумал я, — ведь я сам рекомендовал тебя в органы, сам и убью». И, схватив табуретку, стоявшую рядом, я размахнулся и изо всех сил швырнул ее в голову Чернову.
Конечно, это была жалкая попытка обезумевшего от горя и обиды, вконец обессилевшего от тюремной баланды человека. Пока я замахивался, Чернов успел вытянуть руку и отбросил табуретку. Одновременно он нажал какой-то сигнал, и не успел я опомниться, как в комнату влетели несколько человек. Они повалили меня на пол, стали бить. Через несколько минут я потерял сознание.
Очнулся я, почувствовав холод. Видимо, меня облили холодной водой. Я был окровавленный и мокрый.
Открыв глаза, я увидел, что вокруг меня стоят несколько человек, и среди них знакомая мне по тюремной больнице стервозная женщина-врач. Она взяла мою руку, пощупала пульс и, обратившись к Чернову, сказала:
— Ничего страшного, дайте ему воды и можете продолжать работать.
— Вон отсюда, курва! — не помня себя от гнева, крикнул я.
Чернов пнул меня сапогом в бок. Врачиха вышла, а меня, избитого, отволокли в карцер. После карцера меня перевели в другую камеру. (Меня так часто переводили, что я вскоре потерял счет камерам и не могу точно вспомнить, в какой именно происходило то или иное событие.)
В этой камере тоже сидели старейшие большевики, высшие командиры Красной Армии, участники гражданской войны и Октябрьской революции. Естественно, что все мы были воинствующими атеистами, не верили ни в бога, ни в черта, но после страшных пыток, избиений, морально подавленные, униженные, отданные на расправу любому вахтеру, мы невольно начали поддаваться суевериям.
В частности, по утрам было принято (если кому удавалось увидеть что-либо во сне) рассказывать и обсуждать сны. Так как все мы надеялись, что Сталин не знает всего о том, что творится в НКВД, то, получая раз в десять дней четвертинку писчего листа бумаги для заявления, все обычно писали на имя Сталина. Естественно, постоянно думая о нем, мы часто видели Сталина во сне, говорили с ним, доказывали ему свою невиновность, жаловались на палачей-следователей и т.п.
Но вскоре мы стали замечать, что почти всегда, когда кто-либо видел во сне Сталина, его на следующую ночь вызывали на допрос и жестоко избивали. Постепенно на почве массового психоза у всех нас укоренилась вера в эти зловещие сны. Увидев во сне Сталина, каждый с ужасом ждал, что на следующий день будет подвергнут жестоким пыткам.
Лично я испытал это на себе два или три раза, когда видел во сне Сталина и на следующую ночь бывал жестоко избит. Конечно, меня, как и других, много раз били без всяких предварительных сновидений, но тем не менее, когда кто-либо рассказывал о своем сне, где фигурировал Сталин, вся камера выражала сочувствие увидевшему такой сон.
Когда кто-либо (увы, очень редко) видел хороший сон, например, о том, как он, оказавшись на свободе, проводил время вместе со своими близкими, вся камера с удовольствием слушала рассказ о таком сне и требовала самого детального изложения всех подробностей.
Однажды я увидел сон, будто бы иду по болоту и ноги мои все больше и больше увязают в трясине; и вот я начинаю проваливаться в болото по пояс, по грудь, грязь уже доходит до шеи, вот-вот захлестнет рот. Вокруг никого нет. Но вдруг в самый последний момент, когда моя гибель казалась уже неизбежной, откуда-то появились два незнакомых человека, протянули мне руки и с легкостью вытащили на поверхность. Весь в поту, я проснулся. Когда я рассказал товарищам о своем сне, все в один голос стали предсказывать мне, что я непременно выйду на свободу. Старостой камеры тогда был капитан. Он с особенной убежденностью доказывал мне, что я обязательно буду освобожден. И, несмотря на всю абсурдность подобных суеверий, было радостно хотя бы помечтать о подобной возможности. Реальных надежд у меня не было никаких, да и все товарищи по камерам считали меня смертником, зная, какие тяжкие обвинения в шпионаже и в руководстве правотроцкистской организацией мне предъявляли. И если я пока еще держался и ничего не подписывал, то прекрасно понимал, что это вопрос времени и инквизиторских способностей моих следователей.
После очередного обхода камер тюремным начальством каждый, получив свою драгоценную четвертинку писчего листа бумаги, спешил вновь и вновь написать заявление о своей невиновности на имя Сталина, а реже — в адрес ЦК или прокуратуры. Когда же того или иного арестованного вызывали на допрос, обычно его заявление оказывалось на столе у следователя, который с издевкой говорил: «Что, сволочь, жалуешься? Ну, жалуйся, жалуйся. Вот возьми и подотри себе этим одно место».
Подобный случай произошел и со мною, когда на очередном допросе Чернов, возвращая мне мою жалобу на имя Сталина, издевательски предложил использовать ее для уборной
— Ведь есть инструкция, подписанная наркомом, — с возмущением сказал я. — Почему же наши жалобы не попадают к адресату?
— Инструкция рассчитана на честных людей, а не на таких б..., как ты, — грубо оборвал меня Чернов.
— А разве в тюрьму полагается сажать честных? — спросил я.
Чернов понял, что сказал глупость, еще больше обозлился и окриком: «Молчи, фашистская б...!» — закончил разговор.
На следующем допросе Чернов заявил мне, что органы следствия получили материалы из польской дефензивы (охранки), из которых видно, что я являюсь старым польским шпионом.
— Давно ли органы НКВД сотрудничают с польской разведкой? И с каких это пор польская разведка выдает вам своих шпионов? — спросил я. — Не думаю, чтобы вы считали меня таким наивным человеком, который может поверить в подобную галиматью.
Взбешенный Чернов, перемежая слова нецензурной руганью в мой адрес, стал кричать, что им давно известно, как я вместе с предателями и врагами народа — Медведем, Уншлихтом, Ольским, Опанским и другими — орудовал в Польской организации Войсковой (ПОВ), и что он дает мне суточный срок подумать хорошенько и завтра ждет развернутые показания о моей вражеской деятельности. В противном случае он направит меня в Лефортово, где с меня «спустят шкуру».
Когда в следующий раз нам раздали по четвертинке бумаги, я решил снова написать, но уже не Сталину, а заместителю Ежова Фриновскому. «Уважаемый Михаил Петрович», — писал я и далее сообщал, что арестован, не знаю за собой никакой вины перед партией и советской властью, а меня избивают, требуя ложных показаний. И просил его вмешательства.
Дня через два-три на очередном допросе Чернов издевательским тоном сказал мне:
— А ты, фашистская б..., снова жаловаться? Ну, так смотри, ты своего добился.
И он протянул мне мое заявление с резолюцией: «Санкционирую направление в Лефортово. Разрешаю бить. Фриновский».
У меня потемнело в глазах. Я понял, что попаду в самую страшную следственную тюрьму, откуда почти никто не возвращается. Затем мне «выдали» очередную порцию побоев. Перед отправкой в камеру Чернов еще раз напомнил, что советует мне, как бывшему сослуживцу (конечно, не по шпионской организации, подчеркнул он), обдумать свое положение и «расколоться».
Вернулся я в камеру весь избитый, лег на свое место, но заснуть не мог. Опять и опять мучила мысль: знают ли обо всем этом в ЦК? Знает ли Сталин? Ведь заявления и жалобы к нему не доходят. Скоро уже четыре месяца, как меня избивают, и пока я держусь, ничего не подписал. Но теперь, когда меня переведут в Лефортово... От многих товарищей я слышал, что там применяются особо страшные пытки: вкалывают иглы под ногти, зажимают пальцы какими-то прессами, жгут тело раскаленными предметами и т.п. Всю ночь я не мог сомкнуть глаз. Да и вообще эта ночь выдалась особо беспокойная: без конца вызывали арестованных на допросы, каждые 5—10 минут кого-то приводили, кого-то опять уводили, а некоторых в ту ночь увели с вещами, и они больше не вернулись. Наконец рассвело, и послышалась команда вахтера: «Подъем!»
Это значило, что надо быстро убрать нары, подготовиться к выносу параши и утреннему выходу в туалет.
Как бы ни было тяжело находиться в камерах, с минуты на минуту ожидая очередного допроса с избиениями, а для иных — возможного вызова на расстрел, все же жизнь брала свое, всем необходима была хоть какая-то разрядка. И мы шепотом рассказывали друг другу различные истории из своего прошлого или анекдоты. Иногда по вечерам отдельные группы пытались тихонечко что-либо спеть. Мне запомнился один инженер, обладавший прекрасным голосом, который обычно запевал. Однажды он тихонько запел любимую песню Ленина «Замучен тяжелой неволей», остальные чуть слышно подтягивали.
Через две-три минуты с шумом распахнулась дверь, и в камеру ворвались человек восемь вахтеров. Старший крикнул:
— Что это, бунт? Какие-то контрреволюционные песни распеваете! Тут вам не балет. Мы вам покажем песни!
Этот идиот, видимо, даже не знал, что такое балет. В результате песня обошлась всей камере наказанием. Были закрыты фрамуги, отменены прогулки и лавочки на десять дней.
Когда меня в следующий раз ночью вызвали на допрос, то сопровождали не два вахтера, как обычно, а четверо, и привели не в следственный корпус, а через какие-то коридоры и проходы во двор, а затем по двору к двери в подвальное помещение. Около этих дверей стояли несколько человек, и среди них новый начальник тюрьмы в пограничной форме. Он шепотом спросил мою фамилию, я также шепотом назвал себя. Тогда он зажег фонарик и стал просматривать листки бумаги, которые держал в руках, видимо, отыскивая мою фамилию.
— Не тот, — просмотрев листы, строго сказал он вахтерам. — Ведите куда следует.
И только после этих слов мои неясные, трудно объяснимые ощущения оформились в мысли.
Мне стало понятно, что в эту ночь расстреливали большую группу заключенных, поскольку листков в руках у начальника тюрьмы было довольно много. А то, что приговоры в Бутырке, да и почти во всех других крупных тюрьмах, приводились в исполнение в специально оборудованном глубоком подвале, мне было известно. И когда вахтеры повели меня прочь от входа в этот страшный подвал, ноги у меня подкашивались и я еле держался, тем более что мы поднимались по лестнице все выше и выше, и, наконец, чуть ли не в чердачном помещении меня ввели в маленькую комнатку, где сидел Чернов с каким-то другим, не знакомым мне работником.
— Ну что, прогулялся? — захохотал Чернов, увидев меня.
И только тут я понял, что меня водили к подвальному помещению не по ошибке, а по заранее намеченному Черновым плану.
— Ах ты сволочь! — вне себя крикнул я. — Когда-нибудь тебя самого за все эти номера расстреляют!
Он ничего мне не ответил, а только каким-то необычным взглядом посмотрел в мою сторону. (Видимо, ему самому приходили в голову мысли о возможности подобного исхода.) Я, обессиленный, весь покрытый холодным потом, плюхнулся на табуретку.
Потом Чернов сказал, что моя автобиография вся сплошь сфальсифицирована мною, и тут же стал диктовать другому работнику мою «новую» автобиографию, из которой явствовало, что я немецкий и польский шпион и что мною совершен ряд каких-то невероятных преступлений против советской власти. Подробностей этого бреда сейчас уже не помню, тем более что я был тогда опустошенный после пережитого нервного потрясения.
Когда эта липовая автобиография была вчерне написана, Чернов сказал, что мне придется подписать ее, а иначе меня немедленно переведут для дальнейшего следствия в Лефортово в соответствии с санкцией Фриновского.
Было душно, у меня совершенно пересохли губы и язык. Чернов, видимо, заметил это и спросил:
— Хочешь пить?
Я кивнул. Тогда он послал своего сотрудника за водой, и тот принес бутылку лимонада. Чернов открыл бутылку, налил полный стакан и поднес к моему рту, но, когда я хотел сделать глоток, выплеснул весь стакан мне в лицо.
— Ну вот и напился, — злорадно захохотал Чернов. А затем, обратившись к сотруднику, сказал: — Отправьте его в камеру, — и сам вышел.
Подчиненный Чернова, наверное, сочувствовал мне, потому что, когда мы остались с ним наедине, сказал:
— Ничего не поделаешь, Михаил Павлович! Я вам советую, напишите любую липу, лишь бы избавиться от всех этих издевательств и побоев.
Затем он дал мне напиться.
Нервы у меня были настолько напряжены, что от этих нескольких по-человечески сказанных слов я зарыдал. Тогда он дал мне папиросу, но все время оглядывался на дверь, не вернется ли Чернов или вызванные конвоиры. И когда услышал приближающиеся шаги, шепнул: «Тушите папиросу».
После этого допроса на чердаке меня около месяца никто никуда не вызывал и в Лефортово так и не перевели.
В середине октября ночью меня снова вызвали на допрос к Чернову. Когда меня ввели в кабинет, Чернов вышел, оставив меня с новым сотрудником, молодым парнем, который все время монотонно бубнил: «Пиши б..., пиши б...».
Вдруг дверь отворилась, и мальчишка следователь гаркнул: «Встать смирно!» В комнату в сопровождении Чернова вошел в форме майора госбезопасности знакомый мне по совместному лечению в сеченовском институте в Севастополе бывший работник ГПУ Украины Морозов.
После Севастополя мы с ним не раз встречались в Москве. Тогда Морозов производил впечатление неплохого человека. Оказалось, что теперь он — начальник отдела, ведущего следствие по моему делу, а Чернов — его заместитель...
(В июле моим «начальством» были Минаев и Ильицкий, и я до сих пор не знаю, передано ли мое следственное дело в другой отдел или просто «очередных мавров» — Минаева и Ильицкого постигла заслуженная кара, а вместо них были назначены Морозов и Чернов.)
Усевшись за стол, Морозов начал официальным тоном:
— Ну так вот что, Шрейдер. Я тебя знаю давно. Конечно, ты опытный шпион, и я не знал, что ты такой. Должен тебе сообщить, что есть решение перевести тебя в Лефортово. Будем бешено бить. Подумай, стоит ли? Я как бывший твой друг советую дать чистосердечные по казания.
Я ответил, что он ошибается, что мне нечего показывать. Сказал, что можно не пугать меня Лефортовом, так как я не представляю себе худших методов, чем те, которые применял ко мне Чернов. При этих словах Чернов подскочил ко мне, собираясь ударить, но Морозов жестом руки остановил его и сказал:
— Отправьте его в камеру, пусть подумает. А затем, обращаясь ко мне, добавил:
Что Чернов? В Лефортове ты узнаешь, что такое допрос! — И вышел из кабинета.
— Эх, дурак, дурак, — с насмешливым сожалением сказал Чернов. — Ты мог бы воспользоваться присутствием Морозова и признаться, и не надо было бы никакого Лефортова... Ну что ж, ты сам избрал себе путь. Увидимся в Лефортове.
Меня отправили обратно в камеру.
После этого примерно три — три с половиной недели меня на допросы больше не вызывали. Чернова я больше никогда не видел. (Через несколько месяцев, сидя в общей камере в Бутырской тюрьме, я узнал от арестованного, доставленного из Лефортова, что он сидел в одной камере с бывшим следователем Александром Черновым, которого страшно били и, по-видимому, приговорили к расстрелу. О Морозове больше никогда ничего не слыхал и его судьбы не знаю.)
О режиме в тюрьме я уже много написал, но хочу остановиться еще на особо тяжелых условиях в канун революционных праздников и в праздничные дни.
Приближалась 21-я годовщина Великой Октябрьской революции. Начиная с 1 ноября почти ежедневно арестованных нашей камеры (и, видимо, также и других камер) подвергали унизительным обыскам. При выводе в туалет вместо одного-двух вахтеров нас стали сопровождать четверо, а иногда и шестеро. Вахтеры круглосуточно не отходили от «глазка». Разговаривать было совершенно невозможно, все время раздавались грозные окрики: «Тише! Тише! Молчать!» — хотя мы и без того сидели молчаливые и подавленные.
Обстановка в камерах была до предела напряжена. Все невольно вспоминали, как проводили Октябрьские праздники в прежние годы, на воле, вместе с близкими, и на душе становилось невыносимо тоскливо.
За два-три дня до 7 ноября по расписанию нам полагались очередная выдача книг и получение продуктов из тюремной лавочки, но администрация тюрьмы по неизвестным причинам отложила выдачу, несмотря на то, что мы всеми силами старались не допускать ни малейшего нарушения режима. Таким образом, в праздничные дни 7 ноября 1938 года мы оказались без книг и без продуктов.
Подавляющее большинство арестованных впервые проводили день Октябрьской революции в своей, советской тюрьме, но среди них было немало старых большевиков, которые до революции побывали в царских тюрьмах и рассказывали, как в дни религиозных праздников в царских тюрьмах даже для политических был облегченный режим: разрешались передачи, свидания с близкими и т.п. Невольно напрашивались сравнения.
Два дня, 7 и 8 ноября, тянулись нескончаемо долго. В камерах была гнетущая тишина. Никого на допросы не вызывали. Разговаривать нельзя, книг для чтения не было. Впечатление такое, что ты находишься на передовой линии фронта и после длительного обстрела наступила мертвая тишина.
Как ни странно, но эта гнетущая тишина ужасно действовала на нервы. Многим из нас хотелось, чтобы поскорее вызвали хотя бы на допрос. Пусть бьют, но пусть эта страшная, гнетущая тишина прекратится.
9 ноября началась обычная жизнь. Открывалась форточка. Вахтер называл ту или иную букву, требуя, чтобы назывались все фамилии, начинающиеся на эту букву. И мясорубка снова завертелась.
В ночь на 11 ноября вахтер, подойдя к форточке, спросил: «Кто на «Ш»?» Я назвал себя, и мне было предложено собраться с вещами. Ночные вызовы с вещами предполагались как вызовы на расстрел; я же мог ожидать еще обещанного перевода в Лефортово, что было почти то же самое. Поэтому легко представить себе мое тогдашнее состояние. Собирая свое нехитрое имущество, я весь дрожал и никак не мог все собрать и связать. Товарищи по камере мне помогали и пытались успокоить:
— Не волнуйся, может быть, тебя освобождают...
А кое-кто шепотом начал повторять много раз сказанные друг другу адреса родных (для их уведомления в случае выхода на свободу).
Мне было тяжело расставаться с товарищами, к которым я успел привыкнуть. Особенно запомнился член ЦК ВКП(б), кажется, секретарь Башкирского обкома Быкин — мужественный человек, который подбадривал остальных, хотя сам подвергался неслыханным издевательствам и пыткам.
В коридоре меня поджидал усиленный наряд вахтеров, проводивший меня до вестибюля, где посадили в так называемый «конверт». Это была маленькая камера, вдвое меньше будки телефона-автомата, с маленькой скамеечкой, вделанной в стену. Туда совершенно не проникал свежий воздух, и через несколько минут становилось тяжело дышать.
Вскоре за мною пришел наряд конвоиров. Меня вывели во двор и посадили в отсек арестантской машины «черный ворон». По-видимому, в машине были и другие арестованные, но я никого не видел и ничего не слышал, так как машина была внутри оборудована одиночками с полной звуконепроницаемостью.
И вот машина тронулась. От тревожных мыслей холодело сердце. Куда меня везут? Что меня ожидает? Неужели это последние минуты моей жизни? Главным образом, меня мучило то, что меня расстреляют, и родные не будут ничего знать, и для всех, кто знал меня и не знал, мое имя останется в списках врагов.
После довольно продолжительной дороги машина остановилась как будто бы перед закрытыми воротами. Таких остановок было потом еще две или три. Наконец машина остановилась совсем, но меня долго не выводили: надо полагать, по очереди выгружали остальных.
Когда дверь моей кабины открылась, в глаза ударил яркий свет. Задок автомашины был плотно придвинут к какому-то подъезду. Меня поразило странное непрерывное гудение. Казалось, что где-то рядом работало несколько мощных авиационных моторов.
Меня ввели в подъезд, в комнату направо, где сидел дежурный. Когда он стал заполнять на меня какую-то карточку, я успел заметить на бланке сверху штамп «Лефортовская тюрьма». Значит, Чернов и Морозов выполнили свою угрозу. Я попал в самую страшную тюрьму, которой следователи пугали всех арестованных и откуда редко выходили живыми.
Лефортово. Берия. Неожиданный разговор
Заполнив анкету, дежурный лезвием безопасной бритвы срезал мне с брюк, кальсон и гимнастерки все пуговицы. После этой операции я вынужден был все время поддерживать свои брюки руками сзади (спереди не позволялось). Видимо, эта мера предпринималась для того, чтобы арестованный не мог бежать, хотя было ясно, что ни о каком побеге вообще не могло быть и речи. Затем был произведен самый тщательный и, как всегда, унизительный обыск. А вдруг я принес из Бутырской тюрьмы бомбу или пулемет! После всех этих процедур меня закрыли в таком же «конверте», как и в Бутырской тюрьме в вестибюле. Большим счастьем было, что у меня не отняли папирос, и я с наслаждением закурил, думая, что, может быть, это мое последнее удовольствие, полученное в жизни.
Вскоре за мною пришел человек в форме майора, оказавшийся начальником Лефортовской тюрьмы. Вежливо спросив мою фамилию, он предложил следовать за ним. Мы шли по лестнице, устланной коврами, кажется, на второй или на третий этаж. Меня удивило то обстоятельство, что начиная с первой ступеньки и на всем протяжении лестницы с обеих сторон шпалерами стояли работники в форме НКВД со званиями старшего и высшего начсостава. Здесь были капитаны, майоры (в то время звание капитана госбезопасности приравнивалось к теперешнему званию полковника, а звание майора — к генерал-майору).
На втором или третьем этаже мы свернули в коридор. Из-за дверей, тянувшихся по обеим сторонам, раздавались дикие крики людей, которых, по-видимому, избивали.
Меня ввели в большой, прекрасно оборудованный кабинет, где стоял внушительного размера письменный стол, а на маленьком столике рядом множество телефонных аппаратов. Над письменным столом висел огромный портрет Сталина.
Меня усадили на стул возле входной двери, спиной к ней, а начальник тюрьмы остался стоять рядом.
Прошло несколько минут, затем открылась входная дверь, и начальник тюрьмы скомандовал:
— Встать!
Я встал и увидел входившего в кабинет Берию, одетого в военную форму с четырьмя ромбами. Его сопровождала группа работников, человек десять — двенадцать, из которых в лицо я знал только бывшего начальника ЭКО ГПУ Грузии Деканозова. (В 1931 или 1932 году вместе с начальником административно-организационного управления ОГПУ Островским, заехавшим за мною в санаторий ОГПУ в Гаграх, я один раз был в гостях на даче — где-то под Гаграми — у Берии, бывшего тогда секретарем ЦК Грузии. Там, на даче, он и начальник управления погранохраны Грузии Широков отдыхали вместе со своими женами. Берия был тогда в большой дружбе с Широковым, однако в 1937 году Широков был одним из первых арестован и расстрелян. Еще один раз, также с Островским, в середине 30-х годов мы заезжали ненадолго в квартиру на Арбате, предоставленную Берии на время его командировки в Москву, где он был со своей женой — печальной и как бы чем-то запуганной женщиной.)
Сидя в тюрьме, мы ничего не знали о приходе Берии в НКВД, и я удивился и обрадовался, подумав, что если к власти в НКВД пришел ближайший соратник Сталина и его земляк, есть надежда, что Сталин поручил ему выправить положение, созданное Ежовым. Не помню точно, когда именно, но примерно в этот период в Бутырках сняли висевшие на стенах инструкции о тюремных правилах, подписанные Ежовым и Вайнштоком. А новых долгое время не вывешивали. Из этого мы, конечно, могли сделать заключение, что в руководстве НКВД происходят какие-то сдвиги и перемены. Но точно ничего не могли узнать, только предполагали.
Подойдя к письменному столу, Берия сел в одно из кресел, стоящих с наружной стороны напротив друг друга, а затем сказал, повернув голову в мою сторону:
— Садитесь.
Я пересел на указанное кресло.
— Как ваша фамилия? — спросил Берия.— И давно ли сидите?
(По-видимому, он меня не узнал, а может быть, сделал вид, что не помнит.) Назвав себя, я сказал, что сижу почти полгода, а за что — не знаю. При этом от волнения я заикался, и голос у меня дрожал.
— Успокойтесь, — сказал Берия, налил и подал мне стакан воды, а затем, когда я выпил воду, предложил мне папиросу.
Закурив, я стал рассказывать существо дела, стараясь быть предельно кратким. Но вдруг почувствовал, что кто-то вплотную стоит у меня за спиной. Оглянувшись, я увидел высокого, очень грузного человека кавказского типа, в гимнастерке, с орденом Ленина на груди. Хотя я раньше никогда его не видел, но сразу узнал по описаниям некоторых товарищей по камере, которых он садистски пытал. Это был знаменитый Богдан Кобулов, работавший ранее в НКВД Грузии, а с сентября 1938 года переведенный в Москву. Мне все время казалось, что этот палач-здоровяк, на необъятной груди которого орден Ленина казался маленькой пуговицей, неожиданно стукнет меня сзади своей огромной лапищей и от меня останется мокрое место. Я невольно еще и еще раз оглянулся.
— Что вы все время оборачиваетесь? — спросил Берия. Я ответил, что боюсь, как бы меня сзади не ударили,
так как привык за время следствия к побоям.
— Богдан Захарович, — с иронической усмешкой обратился Берия к Кобулову, — не смущай человека, отойди.
Присутствующие подхалимски хохотнули, а Кобулов отошел от меня и сел подальше.
Продолжая свой рассказ о том, как меня избивают и требуют ложных показаний о принадлежности к шпионской и правотроцкистской организации, я по выражению лица Берии понял, что все это его абсолютно не интересует. И не ошибся. Он вскоре перебил меня и спросил:
Скажите, вы, кажется, руководили валютной группой в ЭКУ ОГПУ? Не вспомните ли дело валютчика Литвина?
Через меня проходили тысячи дел, и, естественно, я не мог запомнить всех фамилий, тем более такую довольно распространенную, как Литвин, — ответил я.
А может быть, вы все-таки постараетесь вспомнить? Эта фамилия в последнее время в органах была довольно известна.
Я сказал, что знаю, что, когда наркомвнуделом был назначен Ежов, вместе с ним в органы из ЦК перешла целая группа работников, в том числе и Литвин, которого, однако, я никогда не видел, так как с 1933 года работал по линии милиции и не имел непосредственного отношения к управлениям госбезопасности. А затем добавил, что от товарищей по камере слышал, что Литвин, как начальник СПО, и его подчиненные избивали и пытали многих арестованных коммунистов, требуя от них ложных показаний.
Было бы очень неплохо, и для вас лично тоже, если бы вы все-таки вспомнили дело валютчика Литвина, — повторил Берия, явно подчеркнув слова «для вас лично», пропуская мимо ушей все мои разглагольствования об избиениях, ложных показаниях и т.п.
Если бы мне показали дело Литвина, возможно, я вспомнил бы обстоятельства и подробности, — ответил я, — но по памяти эта фамилия мне ничего не говорит.
В том-то и дело, что эти мерзавцы уничтожили дело, — с раздражением сказал Берия.
Мне стало понятным, что под «мерзавцами» Берия подразумевает работников Ежова и, по-видимому, ему требуются материалы на Литвина, а возможно, и на других.
(Впоследствии я узнал, что в те дни Ежов еще был наркомом, но Сталин назначил Берию замнаркомвнудела с особыми полномочиями от Политбюро ЦК, надо полагать, предрешив снятие Ежова, и с 4 по 6 ноября 1938 года по приказу Берии было уже арестовано много руководящих работников НКВД, ставленников Ежова. Литвин же, бывший в последнее время начальником УНКВД по Ленинградской области, предвидя возможный арест, застрелился. Но в тот момент я ничего этого не знал, а просто надеялся, что, возможно, с приходом в органы Берии фальсификаторы и палачи, насажденные в органах Ежовым, будут разоблачены, восстановится порядок и будет соблюдаться социалистическая законность.)
Во время возникшей паузы я снова попытался заговорить о своем деле, в частности, о том, как был арестован по телеграмме Ежова и как меня все время бьют и пытают, требуя признаться в никогда не совершенных страшных преступлениях.
Но Берия нетерпеливо перебил меня, сказав, что не отвечает за действия врагов, пробравшихся к руководству НКВД, по приказу которых я арестован.
Гражданин Берия! — сказал я. — Заявляю вам как представителю Сталина, что я ни в чем не виноват и мое дело является полностью сфальсифицированным, как и дела многих арестованных, находящихся в камерах.
— За других не ручайтесь, — сухо оборвал Берия.
Прошу вашего указания, — продолжал я, — о тщательном расследовании моего дела. Ведь я выходец из ни щей семьи, получивший от советской власти все, о чем только может мечтать человек, и если бы я действительно совершил преступление против моей партии и Родины, то меня следовало бы не расстрелять, а жестоко пытать и резать на куски.
Резать и пытать вас никто не собирается и бить никто не будет, — пообещал Берия. — Дело расследуем, разберемся; окажетесь виновным — накажем, арестованы по ошибке — освободим, подлечим и восстановим на работе. — Затем после небольшой паузы он спросил: — Есть у вас еще что-либо ко мне?
— Прошу вашего распоряжения отпустить меня домой, — выпалил я.
Мое заявление вызвало смех у всех присутствующих.
— Домой еще рано, — усмехнулся Берия.
Тогда, если можно, прошу направить меня во внутреннюю тюрьму, поближе к дому. Там хоть есть койки и одеяла, а в Бутырке арестованных в камерах набито, как сельдей в бочках.
— Неужели так много? — деланно удивился Берия.
Тогда я, торопясь, стал говорить о безобразном медицинском обслуживании в больнице Бутырской тюрьмы, о тяжело больных и избитых товарищах, не получающих медицинской помощи, в частности, о немецком коммунисте Эберлейне и о ряде других (я помнил фамилии почти всех товарищей, которые лежали со мной в больнице). Когда я произнес фамилию Эберлейна, Берия недовольно поморщился. Далее я рассказал, что мне с кровотечениями и язвой желудка так же не было оказано никакой медицинской помощи.
— Не может этого быть, вы преувеличиваете, — сказал Берия. — Но проверим и разберемся.
Затем, подозвав начальника Лефортовской тюрьмы, Берия распорядился отправить меня во внутреннюю тюрьму и добавил:
Пусть его осмотрит врач, и если есть язва желудка, надо улучшить рацион питания. — И, взяв из вазы с фруктами, стоявшей на столе, апельсин и яблоко, он подал их мне.
Что вы, зачем? Не надо, гражданин Берия, — стал отказываться я, тем более что, когда я встал, руки у меня были заняты поддержкой брюк, с которых при входе срезали пуговицы, и я не мог взять фрукты.
— Бери, бери, не стесняйся, — вдруг переходя на «ты» и инсценируя заботливость, сказал Берия. — Тебе же нужны витамины. — И с этими словами он сам засунул мне апельсин и яблоко в карманы.
Обнадеженный и обрадованный, в сопровождении начальника тюрьмы я вышел из кабинета. Но как только дверь за нами захлопнулась и мы двинулись вдоль коридора к выходу, меня как ножом по сердцу резанул страшный, нечеловеческий вопль, раздавшийся из-за дверей соседнего кабинета. Так мог кричать человек, которого не просто били, а жгли каленым железом или подвергали каким-либо другим изуверским пыткам. Подобные же крики раздавались почти из-за всех дверей, выходящих в коридор, по которому меня вели. И я подумал о том, что только что Берия пообещал, что меня бить и пытать не будут, а тут во всех кабинетах, по-видимому, в честь его приезда (ведь я же видел, какая помпезная встреча была устроена, когда все следователи стояли навытяжку вдоль ступенек лестницы) следователи изощряются в пытках над заключенными. Неужели все его заверения ничего не стоят, или он почему-то только для меня решил сделать исключение? Мое приподнятое настроение стало постепенно меркнуть.
Тем временем мы вышли из помещения Лефортовской тюрьмы. Начальник посадил меня с двумя конвоирами в обычную легковую машину, и мы поехали во внутреннюю тюрьму. Эта необычная для заключенного перевозка тоже в какой-то мере обнадеживала.
Уже рассветало, когда начальник внутренней тюрьмы Миронов (который в прошлом, будучи вахтером, бывало, заискивал передо мною, а сейчас, естественно, сделал вид, что не узнал) поместил меня в камеру, кажется, № 4 или № 6, где кроме меня было уже три человека.
Один из них, Григорий Якубович, лежа на постели, с ожесточением вгрызался в огромную сырую луковицу, нос и щеки его были измазаны соком. Я хорошо знал Якубовича как руководящего работника УНКВД Московской области и, хотя никогда не соприкасался с ним по работе, всегда относился к нему недоброжелательно. Одно время он был заместителем Радзивиловского, а в период ежовщины был выдвинут на должность заместителя начальника УНКВД Московской области. А это надо было «заслужить».
— Что это ты по ночам лук жрешь? — вместо приветствия спросил я.
— А, это ты, Миша! — надев очки и узнав меня, ответил он. — Питаюсь витаминами. Витамины — великая вещь!
— Фамилию второго заключенного не помню. Это был бывший сотрудник НКВД в звании капитана.
Третьего я не узнал, но он вдруг обратился ко мне и едва слышно произнес:
— Как, и ты тоже попал?
А потом, видя, что я недоумевающе смотрю на него, добавил:
— Ты что, не узнал меня? Я — Мирзоян! — и заплакал. Присмотревшись внимательно, я обомлел: передо мною сидел на койке согнувшийся старик, худой, как скелет, обросший седой щетиной, с провалившимися гла-
и одеяла, а в Бутырке арестованных в камерах набито, как сельдей в бочках.
— Неужели так много? — деланно удивился Берия.
Тогда я, торопясь, стал говорить о безобразном медицинском обслуживании в больнице Бутырской тюрьмы, о тяжело больных и избитых товарищах, не получающих медицинской помощи, в частности, о немецком коммунисте Эберлейне и о ряде других (я помнил фамилии почти всех товарищей, которые лежали со мной в больнице). Когда я произнес фамилию Эберлейна, Берия недовольно поморщился. Далее я рассказал, что мне с кровотечениями и язвой желудка так же не было оказано никакой медицинской помощи.
— Не может этого быть, вы преувеличиваете, — сказал Берия. — Но проверим и разберемся.
Затем, подозвав начальника Лефортовской тюрьмы, Берия распорядился отправить меня во внутреннюю тюрьму и добавил:
Пусть его осмотрит врач, и если есть язва желудка, надо улучшить рацион питания. — И, взяв из вазы с фруктами, стоявшей на столе, апельсин и яблоко, он подал их мне.
Что вы, зачем? Не надо, гражданин Берия, — стал отказываться я, тем более что, когда я встал, руки у меня были заняты поддержкой брюк, с которых при входе сре зали пуговицы, и я не мог взять фрукты.
. — Бери, бери, не стесняйся, — вдруг переходя на «ты» и инсценируя заботливость, сказал Берия. — Тебе же нужны витамины. — И с этими словами он сам засунул мне апельсин и яблоко в карманы.
Обнадеженный и обрадованный, в сопровождении начальника тюрьмы я вышел из кабинета. Но как только дверь за нами захлопнулась и мы двинулись вдоль коридора к выходу, меня как ножом по сердцу резанул страшный, нечеловеческий вопль, раздавшийся из-за дверей соседнего кабинета. Так мог кричать человек, которого не просто били, а жгли каленым железом или подвергали каким-либо другим изуверским пыткам. Подобные же крики раздавались почти из-за всех дверей, выходящих в коридор, по которому меня вели. И я подумал о том, что только что Берия пообещал, что меня бить и пытать не будут, а тут во всех кабинетах, по-видимому, в честь
его приезда (ведь я же видел, какая помпезная встреча была устроена, когда все следователи стояли навытяжку вдоль ступенек лестницы) следователи изощряются в пытках над заключенными. Неужели все его заверения ничего не стоят, или он почему-то только для меня решил сделать исключение? Мое приподнятое настроение стало постепенно меркнуть.
Тем временем мы вышли из помещения Лефортовской тюрьмы. Начальник посадил меня с двумя конвоирами в обычную легковую машину, и мы поехали во внутреннюю тюрьму. Эта необычная для заключенного перевозка тоже в какой-то мере обнадеживала.
Уже рассветало, когда начальник внутренней тюрьмы Миронов (который в прошлом, будучи вахтером, бывало, заискивал передо мною, а сейчас, естественно, сделал вид, что не узнал) поместил меня в камеру, кажется, № 4 или № 6, где кроме меня было уже три человека.
Один из них, Григорий Якубович, лежа на постели, с ожесточением вгрызался в огромную сырую луковицу, нос и щеки его были измазаны соком. Я хорошо знал Якубовича как руководящего работника УНКВД Московской области и, хотя никогда не соприкасался с ним по работе, всегда относился к нему недоброжелательно. Одно время он был заместителем Радзивиловского, а в период ежовщины был выдвинут на должность заместителя начальника УНКВД Московской области. А это надо было «заслужить».
Что это ты по ночам лук жрешь? — вместо привет ствия спросил я.
А, это ты, Миша! — надев очки и узнав меня, от ветил он. — Питаюсь витаминами. Витамины — великая вещь!
Фамилию второго заключенного не помню. Это был бывший сотрудник НКВД в звании капитана.
Третьего я не узнал, но он вдруг обратился ко мне и едва слышно произнес:
— Как, и ты тоже попал?
А потом, видя, что я недоумевающе смотрю на него, добавил:
— Ты что, не узнал меня? Я — Мирзоян! — и заплакал. Присмотревшись внимательно, я обомлел: передо мною сидел на койке согнувшийся старик, худой, как скелет, обросший седой щетиной, с провалившимися глазами. Это был первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Леон Исаевич Мирзоян, с которым мы последний раз виделись в Алма-Ате на 1 мая 1938 года. Тогда он был здоровым и цветущим человеком, веселым, жизнерадостным, преданным партии и Сталину. Когда я взял Мирзояна за руку, то почувствовал, что у него не было сил ответить на мое рукопожатие.
Как я уже писал в главе об Алма-Ате, наши встречи с Мирзояном носили чисто служебный характер. Я бывал у него в кабинете, докладывая о милицейских делах, несколько раз слышал его выступления на заседаниях Бюро ЦК Казахстана и других совещаниях и собраниях. У нас с ним было несколько конфликтов в связи с введением паспортного режима. Кроме того, когда я узнал от Реденса, что на него по заданию Москвы подбирают материал, я старался поменьше сталкиваться с ним, но все же наши отношения были нормально деловыми.
Здесь, в камере, общее горе сразу сблизило нас, и мы подружились. Прежде всего Мирзоян поинтересовался, не знаю ли я чего-либо о судьбе жены и детей. Но, к сожалению, я ничего не знал. Затем он рассказал, как, получив на руки решение ЦК за подписью Сталина об освобождении его от должности первого секретаря ЦК КП Казахстана и отозвании в распоряжение ЦК ВКП(б), он с семьей в отдельном вагоне со своей личной охраной выехал в Москву. Когда поезд прибыл в Куйбышев, в нему в вагон вошли местные работники НКВД и предъявили ордер на арест. Сопровождавшие его работники охраны, жена и дети были выведены из вагона, а он в этом же вагоне под охраной куйбышевских чекистов был доставлен в Москву и прямо с вокзала привезен в Лефортовскую тюрьму.
В тюрьме его с первого же дня начали зверски избивать, требуя показаний о его шпионской деятельности и о том, что он якобы вел переговоры с англичанами об отделении Казахстана от СССР, а также о подготовке им террористического акта против М.И.Калинина, когда последний в дни празднования 15-летия Казахской ССР приезжал в Алма-Ату на торжества и жил несколько дней на квартире у Мирзояна. (Во всех этих фальсифицированных обвинениях чувствовалась характерная для ежовских следователей «железная логика».)
Затем Мирзояну предъявили обвинение в том, что он еще готовил террористические акты против Сталина и Ежова. На его требования, чтобы его связали со Сталиным, следователи отвечали бранью и еще сильнее его избивали.
Однажды во время допроса в кабинете следователя появился Ежов, к которому Мирзоян обратился с жалобой на методы следствия, просил разобраться во всем и прекратить пытки.
— Товарищ Сталин приказал оставить тебе целой только кисть правой руки, чтобы ты мог подписать показания о своей вражеской деятельности, — заявил Ежов. — Учти, Мирзоян, что указания Иосифа Виссарионовича будут выполнены с точностью!
Мирзояна зверски избивали, от ударов по голове у него были повреждены барабанные перепонки, так что он едва слышал. По нескольку дней его держали на допросах стоя. Следователи менялись, а он продолжал стоять, ноги распухали, и он падал, теряя сознание. Тогда его обливали водой, приводили в сознание, а затем опять продолжались избиения, издевательства и пытки. Наконец, не выдержав пыток и решив скорее умереть, Мирзоян подписал то, что от него требовали.
Через несколько дней его снова вызвали на допрос, и он был поражен, увидев Берию, окруженного совершенно новыми следователями. В свите Берии были Кобулов, Владзимирский и ряд других. Мирзоян знал Берию по прошлой работе в Закавказье, где они не ладили между собой, однако Мирзоян в первое мгновение (так же, как и я) порадовался, увидев Берию, так как надеялся через него дать знать о себе Сталину и добиться правды. Поэтому он сразу же стал рассказывать Берии, что его страшно пытали и все подписанное им является ложью.
Мы давно знали, что ты старый шпион, провокатор и мусаватист, — ответил Берия. — Так же как знаем твою грязную роль в расстреле двадцати шести бакинских комиссаров. Поэтому нечего выкручиваться, а не то снова будем бить!
Чему угодно я могу поверить, Лаврентий, — забыв, что он подследственный, сказал Мирзоян, — но только не тому, что ты веришь в то, что говоришь!
— Какой я тебе Лаврентий, мерзавец! — крикнул Берия.— Обращайся, как полагается преступникам, а если ты забыл, как надо обращаться, тебе поможет Богд
Обернувшись к Кобулову, распорядился:
— Продолжайте допрос! — и вышел из кабинета. Ко булов набросился на Мирзояна с оскорблениями и побоями. Кобулову помогали человек пять здоровенных парней, которые били Мирзояна резиновыми палками, причем, зная, что у него больные почки, нарочно били по пояснице и другим самым уязвимым местам. Снимали с него ботинки и били по голым пяткам. (Это, кстати сказать, был один из новых методов избиения, введенный Берией, видимо, заимствованный из китайской практики. Удары по пяткам вызывали острую боль и не оставляли никаких следов.) Несколько раз вызывали какого-то подлеца врача, который, проверив пульс, цинично заявлял: «Можно про должать!»— и уходил.
Со дня прихода в НКВД Берии Мирзояна допрашивали почти ежедневно. Несколько раз на допросах присутствовал Берия и лично избивал его. На одном из допросов Берия потребовал, чтобы Мирзоян рассказал, как им были завербованы в террористическую организацию его шурин Тевосян, в то время член ЦК ВКП(б), и бывший уполномоченный ЦКК по Казахстану Москатов. Мирзоян долго сопротивлялся, но, будучи доведен побоями и пытками до отчаяния, подписал показания против Тевосяна и Москатова, а также и все ранее данные ложные показания.
После этого его на некоторое время оставили в покое, а затем снова вызвали на допрос, и Кобулов, а также и сам Берия начали орать на него:
— Ты провокатор! Почему ты оклеветал честных людей? Зачем ты, сволочь, оговорил Тевосяна и Москатова? Напиши, что ты их сознательно оклеветал!
На первых порах Мирзоян не хотел отказываться от показаний на Тевосяна и Москатова, боясь новой провокации, но его опять побоями и пытками принудили подписать отказ.
Мирзоян предполагал, что, когда о полученных показаниях на наркомцветмета Тевосяна доложили Сталину, тот, видимо, не дал санкции на арест. Ведь Тевосян в то время являлся незаменимым специалистом и руководителем металлургической промышленности, к тому же был выдвиженцем самого Сталина. Что касается Москатова, то Мирзоян предполагал, что тут сыграло роль то, что его фамилия упоминалась вместе с Тевосяном, да и к тому времени в органах КПК, кроме Шкирятова и Москатова, почти никого из старых работников не осталось, а эти двое вполне устраивали Сталина: оба всемерно помогали сначала Ежову, а теперь Берии «разоблачать» так называемых «врагов народа».
Когда Мирзоян подписал новые «выбитые» у него показания, что он умышленно оклеветал Тевосяна и Москатова, Берия заявил ему:
— Скоро приедут из Политбюро. Ты должен им рассказать, как оклеветал Тевосяна и Москатова, и признаться во всех своих шпионских и контрреволюционных действиях. Учти, если будешь фокусничать, мы с тебя шкуру снимем! Ведь ты не дурак? Сам понимаешь: они уедут, а ты останешься с нами.
Приблизительно через полчаса после этого предупреждения в кабинет, где находился Мирзоян, вошли Молотов, Маленков и Каганович. Они, конечно, прекрасно видели, в каком ужасном состоянии был Мирзоян, но сделали вид, что все в порядке, и задали Мирзояну несколько вопросов: зачем он оклеветал Тевосяна и Москатова? С какого времени он начал свою шпионскую и троцкистскую деятельность? И т.п.
Желая скорее покончить счеты с жизнью и будучи напуганным угрозами Берии о новых пытках, которых он уже не в состоянии был выносить, Мирзоян невнятно пробормотал все, что от него требовали. Потом, видя, что процедура допроса заканчивается и члены Политбюро вот-вот уедут, Мирзоян все же не выдержал и обратился к Молотову:
Вячеслав Михайлович, меня страшно пытали... — не смог продолжать далее и зарыдал.
А что же, с такой сволочью, как ты, целоваться, что ли? — бросил реплику Каганович, и все присутствую щие, в том числе Молотов и Маленков, усмехнулись этой «остроте».
После этого Мирзояна вынесли из кабинета и отправили в камеру. Сам ходить он уже давно не мог, у него были перебиты чуть ли не все ребра.
(В октябре 1954 года я был вызван на комиссию по назначению персональных пенсий, возглавляемую т. Москатовым, которого тогда увидел впервые. Рассказывая свою автобиографию, я упомянул, что работал в Казахстане замнаркомвнуделом и начальником главного управления милиции и что при мне в Алма-Ате уполномоченным КПК был Алферов, ранее эту должность занимал сам Москатов, а секретарем ЦК Казахстана был Мирзоян.
— Да, это был опасный враг народа, — перебил меня Москатов.
Тогда я в присутствии всей комиссии рассказал все, что знал о пытках и мучениях, которые претерпел Мирзоян, а также о том, как у него были «выбиты» показания на Москатова и Тевосяна, и только благодаря случайности Москатова не постигла такая же печальная участь, как Мирзояна и Алферова, об издевательствах и пытках над которым я узнал позднее от сидевшего в какой-то период в одной камере с Алферовым Феди Чангули. Мой рассказ произвел тогда огромное впечатление на Москатова и всех других членов комиссии. Это происходило еще до XX съезда КПСС.)
В одной камере вместе с Мирзояном мне пришлось просидеть более двух с половиною месяцев.
Однажды его снова вызвали на допрос, требуя показаний на каких-то других сослуживцев по Казахстану. Мирзоян пытался отказаться от этих новых показаний, грозящих арестом ни в чем не повинным товарищам. Тогда Берия устроил ему очную ставку с бывшим председателем Совнаркома Казахстана, членом ЦК ВКП(б) Исаевым, которого я так же хорошо знал по Алма-Ате.
Исаев был хорошо одет, чисто выбрит и прекрасно выглядел. По-видимому, его специально подкармливали. Он цинично уличал Мирзояна и названных Берией и Кобуловым новых руководящих и партийных работников Казахстана, обвиняя их в шпионаже, троцкизме, терроре, национализме и во всех прочих грехах.
Мирзоян рассказывал, что очные ставки с Исаевым ему уже устраивали и раньше, и с негодованием называл Исаева провокатором и самой последней сволочью.
Мои попытки разубедить его, предположив, что Исаева, возможно, тоже пытали и он вынужден был так вести себя под страхом новых пыток, ни к чему не привели. Мирзоян с убежденностью твердил свое: «По морде видно, что его никто не бил. Исаев провокатор и подлец!»
Как я уже упоминал, у Мирзояна были перебиты почти все ребра. Он почти не мог вставать и к параше подходил с огромным трудом, с моей или с чьей-нибудь помощью, причем каждый шаг вызывал у него ужасные боли, доводившие его до истерического плача.
При мне Мирзояна еще пять или шесть раз выносили на носилках на допросы, каждый раз требуя показаний на других работников.
В периоды затишья, когда допросов не было, мы обо многом говорили с Мирзояном. Он с ненавистью говорил о Берии. И рассказал мне, что, когда кандидатура Берии была выдвинута на должность секретаря Закавказского бюро ЦК партии, Серго Орджоникидзе и группа закавказских большевиков резко выступили против этого назначения. Причем, со слов Мирзояна, Орджоникидзе и ряд других закавказских большевиков располагали материалами о предательской линии Берии и его связях с мусаватистами, а также об организованном им самим же восстании меньшевиков в Кутаиси (кажется, в 1925 г.), которое он «блестяще подавил» для саморекламы. Кроме того, говорили о недопустимом разложении и о том, что на Кавказе Берию называли «турецким султаном», чуть ли не имеющим свой гарем.
Со слов Мирзояна, для Сталина все это не было секретом, но тем не менее по неизвестным Мирзояну причинам, несмотря на то, что Политбюро ЦК отклонило назначение Берии, Сталин единолично это назначение утвердил.
От Мирзояна же я слышал о следующем эпизоде, произошедшем на XVII съезде партии, членом президиума которого он являлся.
Старейший большевик, бессменный председатель ЦИК Грузии Миха Цхакая два или три раза подряд оказался в председательском кресле на съезде. Надо отметить, что Миха Цхакая был очень популярной личностью не только в Грузии, но и во всей партии.
Но Сталин, видимо, приревновал даже к видимости «руководящей роли» Цхакаи на съезде и во время перерыва, когда Мирзоян беседовал с Орджоникидзе, подошел к ним и, обращаясь к Серго, раздраженным тоном сказал:
— Что это такое, СергоГ Где партийная демократияП Почему этот старый дурак все время лезет на председательское местоК Кто его назначилН Ну, я понимаю, одно заседание, а он все сидит и сиди
— Ну, чем тебе старик мешает? Пусть сидит, какая разница, — с мягким юмором отвечал Серго.
Но Сталин не успокаивался:
— Слушай, Серго, сделай, чтобы этого больше не было.
Я ничего ему говорить не могу. Если считаешь нужным, скажи сам. Он же правильно ведет заседания, и я ничего плохого тут не вижу, — уже серьезно возразил Орджоникидзе.
Сталин с недовольным видом, махнув рукой, отошел от них и стал раскуривать трубку. Однако на следующем заседании председательствовал уже другой член президиума.
30 декабря 1938 года в нашу камеру на место Якубовича привели нового подследственного. Это был молодой человек высокого роста. Из кармана он вынул два апельсина, сказав, что он только что получил их в подарок от Берии.
На наш вопрос, кто он и за что арестован, он ответил, что арестован по делу «убийства Чкалова». Нам, естественно, ничего не было известно о гибели Чкалова. Нервы у нас были напряжены и издерганы до предела, и, узнав о смерти всеми нами любимого летчика, мы втроем расплакались, как истеричные женщины. Сначала мы приняли нашего сокамерника очень недружелюбно, подозревая, что он действительно замешан в убийстве Чкалова, и в первые минуты, не сговариваясь, как бы объявили ему бойкот. Несмотря ни на что, все мы еще продолжали верить, что дело каждого из нас — случайность и нелепое стечение обстоятельств, ведь когда на тебе нет вины, то ее действительно нет! — а тут, может быть, мы имеем дело с настоящим преступником?
Наконец бывший капитан НКВД, у которого, как видно, нервы были покрепче, успокоился и попросил молодого человека рассказать подробнее, при каких обстоятельствах произошло убийство Чкалова.
Молодой человек рассказал, что по происхождению он из семьи текстильщиков города Середы Ивановской области, что учился на последнем курсе МАИ, был председателем студенческого комитета и активным общественником. Однажды, совершенно неожиданно для него, он был вызван к наркому авиационной промышленности М.М. Кагановичу, и тот сообщил ему, что его кандидатура выдвинута на должность начальника ЦАГИ. Он растерялся и стал отказываться, говоря, что никогда не был ни на какой ответственной работе и что он еще не окончил институт. Но М. Каганович ответил ему, что его кандидатура поддерживается Сталиным и отказываться уже поздно, тем более что в ЦАГИ весь руководящий состав уже арестован, так как все они оказались врагами народа. Тут же М. Каганович повез его в Кремль к Сталину, который принял его, сказал, что ему поручается ответственная работа — начальника ЦАГИ, и обратил его внимание на то, что в аппарате ЦАГИ, возможно, имеются остатки троцкистских элементов и чтобы он в отношении подобных работников действовал решительно.
Вскоре после того, как он приступил к работе в ЦАГИ, авиаконструктор Поликарпов сделал новый тип самолета. Для испытаний этого самолета была создана правительственная комиссия под его председательством (фамилии его я не помню). Во время работы в ЦАГИ он очень подружился с Чкаловым и, считая испытание этой новой модели рискованным, не хотел поручать его Чкалову, о чем доложил М. Кагановичу. Но сам Чкалов настаивал на том, что испытание будет проводить сам.
Во время полета на аэродроме присутствовала вся комиссия, в том числе Поликарпов. Самолет поднялся вверх не очень высоко и вдруг камнем полетел вниз...
Новоиспеченного начальника ЦАГИ сразу же после аварии вызвали в ЦК, а оттуда отвезли в НКВД к Берии. Берия его допрашивал, требовал, чтобы он дал показания, по заданию какой разведки он совершил аварию с самолетом Чкалова. Во время допроса Берия применял свой «любимый метод» — битье резиновой палкой по голым пяткам. Допрос длился несколько дней, его все время били, и, наконец, в день поступления в нашу камеру его опять вызвали к Берии. Тот несколько раз ударил его, назвал дураком, а затем сказал: «Все равно будем судить. Ты, конечно, не шпион. Тебя будем судить за халатность». В «утешение» он дал ему пару апельсинов и сказал: «Ну ладно, пойдешь в другую камеру». (Дальнейшей судьбы этого молодого человека не знаю. Когда в конце января 1939 года меня перевели в Бутырскую тюрьму, он еще оставался вместе с Мирзояном. Но думаю, что он должен был остаться в живых.)
Примерно в тот же период из нашей камеры увели чекиста-капитана и на его место посадили молодого парня, кажется, секретаря Донецкого обкома комсомола, члена ЦК комсомола (фамилии, к сожалению, также не помню). Он рассказал нам, что в Москве на пленуме ЦК комсомола была арестована группа комсомольских руководящих работников. И что от него требуют показаний о его контрреволюционно-террористической деятельности, а также о том, что он был завербован бывшим секретарем ЦК комсомола Косаревым.
Парень этот был очень молод, с большой любовью говорил о Сталине и Берии. Он был уверен, что, как только о его деле узнает Берия, его сразу же освободят. Через несколько дней его вызвали на допрос, и он вернулся оттуда сильно избитым. Но все же продолжал настаивать на том, что обо всех этих безобразиях не знают Сталин и Берия. Когда же Мирзоян сказал, что его бил лично Берия, и это также подтвердил молодой начальник ЦАГИ, комсомолец наивно заявил, что, наверное, все мы настоящие враги, поэтому Берия нас и бьет, а его следователей Берия обязательно привлечет к ответственности. (Дальнейшей судьбы этого наивного комсомольца я тоже не знаю, так как вскоре был переведен в Бутырку.)
Пока я сидел в одной камере с Мирзояном, меня за два с половиной месяца ни разу не вызывали на допрос. 24 или 25 января ночью меня вызвали на допрос, и я очутился в кабинете у какого-то незнакомого мне, по-видимому, большого начальника. Он предложил мне сесть и начал расспрашивать о моих знакомых и сослуживцах и наиболее близких друзьях.
Я ответил, что у меня было очень много знакомых и друзей из работников органов, но ближайшими товарищами последнего периода я считаю Чангули, Клебанского и Невского.
Допрашивающий все это записал и затем прочел мне следующее: «Я, Шрейдер, признаю себя виновным в правотроцкистской, шпионской и террористической деятельности, и в состав организации, в которой я участвовал, входили...» перечисленные мною товарищи, которых я будто бы вербовал.
Я возмутился, заявив, что ничего подобного не говорил.
Следователь подошел ко мне, изо всей силы ударил меня и крикнул:
— Подпиши!
Выругался нецензурно и еще раз ударил меня по лицу.
Я заявил ему, что меня допрашивал Берия и обещал, что меня больше бить не будут и в моем деле тщательно разберутся.
— Ну вот и разобрались, — ехидно сказал следователь. А затем на том протоколе допроса, который я отказался подписать, сделал пометку: «Допрос откладывается на завтра».
После этого он дал мне прочитать заранее подготовленное постановление о предъявлении мне обвинений, из которого я узнал, что привлекаюсь к ответственности по всем пунктам 58-й статьи уголовного кодекса, то есть за измену родине, за шпионаж, террористическую деятельность, экономическую контрреволюцию и вредительство.
Сейчас уже не помню, подписал ли я эту бумагу, но думаю, что подписал, поскольку это была обычная формальность. Каждый, независимо от признания своей вины, должен был знать, в чем его обвиняют, и его подпись означала только, что он ознакомился с предъявленными ему обвинениями.
Фамилии этого следователя, которого я видел всего один раз, я не знаю. Вернувшись в камеру, я рассказал своим сокамерникам обо всем, что было со мною на допросе.
— Типичные методы Лаврентия, — с горечью сказал Мирзоян, — сначала обласкали, а потом — по морде.
После этого допроса я начал снова падать духом. Мои надежды, что обещания Берии будут выполнены, что с моим делом разберутся и методы следствия хоть немного изменятся к лучшему, рухнули. Я понял, что никаких изменений не произошло.
27 или 28 января 1939 года меня вызвали с вещами, и я с грустью распрощался с Мирзояном, с которым мы за два с половиною месяца очень подружились, а также и с остальными.
— Ну что ж, брат, ваше дело, видимо, конченое, — напутствовал меня Мирзоян. — Встретимся на том свете!..*
_____
*1. Л.И.Мирзоян был расстрелян в феврале 1939 года.
Через несколько часов я попал в общую камеру Бутырской тюрьмы. Как и прежде, камера была битком набита арестованными, но уже были введены кое-какие послабления и новшества. Арестованным разрешалось играть в шашки и шахматы, разрешалось получать вещевые передачи.
Как я уже упоминал, во времена Ежова в камерах не было почти никакого медицинского обслуживания. Из камер выволакивали только тех, кто в полном смысле слова умирал. Никакие жалобы ни на какие боли во внимание не принимались.
Теперь же Берия, видимо, желая на первых порах создать себе некую популярность, распорядился улучшить обслуживание арестованных. Ежедневно производился обход камер фельдшерицами. Открывалась форточка камерной двери, и вахтер спрашивал: «Есть больные? Подходи!» И в камере выстраивалась очередь желающих обратиться за медицинской помощью. Одни жаловались на головные боли. Этим фельдшерица собственноручно совала таблетку в рот и давала запить водой. (На руки таблетки на выдавались.) В камеру фельдшерица никогда не входила. Больных с высокой температурой и другими тяжелыми заболеваниями вахтеры выводили в коридор, где производился осмотр возле столика вахтера.
Когда жаловались на обострение геморроя, фельдшерица просила показать им геморрой. Тогда больной снимал штаны, а двое или трое заключенных приподнимали его так, чтобы голый зад находился прямо напротив форточки. Фельдшерица тут же оказывала «экстренную помощь», а именно: смазывала больное место йодом, от чего страдающий геморроем выл от нестерпимой боли. Несколько улучшилось в тот период и питание желудочных больных. Несколько таких больных, в том числе и я, стали получать кое-какое диетическое питание.
Наряду с некоторыми улучшениями с приходом к власти Берии были введены и некоторые особые строгости. Если раньше на допросы водили в сопровождении одного или двух вахтеров, то теперь их стало четверо. Выводя арестованного из камеры, два вахтера хватали его за обе руки, выворачивали их назад, а двое других сопровождали: один сзади, другой спереди. Причем во время следования на допрос, чтобы не столкнуться с другими арестованными, вахтеры подавали какие-то условные сигналы, то стукая ключом по пряжке пояса, то чмокая языком.
Первое время каждый арестованный, которого выводили таким образом, был убежден, что его ведут на расстрел, и, естественно, переживал сильное нервное потрясение. Но постепенно, узнав, что так стали водить всех, мы привыкли.
Позднее по камерам пошли слухи о том, что усиление конвоя при вождении арестованных было вызвано несколькими попытками к самоубийству. Рассказывали, что некоторые подследственные, сопровождаемые одним или двумя конвоирами, бросались с верхних этажей в лестничные клетки, а также на отопительные батареи, пытаясь разбить голову острыми краями калориферов. (От кого-то из арестованных я слышал, что пытался разбить голову о батареи и Н. И. Добродицкий.) Надо полагать, что слухи эти были обоснованными: вскоре во всех коридорах следственного корпуса отопительные батареи были закрыты специальными гладкими металлическими кожухами, а лестничные клетки затянуты решетками.
Новые товарищи по камере поинтересовались моим делом, и, когда я рассказал им, что был у Берии, а также о последнем допросе, меня, несмотря на мало обнадеживающий разговор с последним следователем, стали подбадривать, говоря, что раз меня перевели в Бутырку, то, наверное, скоро отпустят домой. И тут же многие наперебой стали шептать мне в уши свои домашние адреса, телефоны и т.п., чтобы я после выхода на свободу мог сообщить о них родным и близким.
Через два дня меня днем вызвали из камеры с вещами. Сначала я подумал, что, может быть, предсказания сокамерников подтверждаются и я выхожу на свободу. Но меня ждало горькое разочарование, когда после 30 — 40-минутной перевозки в «черном вороне» меня вывели из машины на Ярославском вокзале, надели наручники, как опасному уголовному преступнику, и после этого отвели в отдельный арестантский вагон.
ННаутро вагон прибыл на станцию Ярославль. Меня в наручниках вывели из вагона на перрон, где пришлось довольно долго ждать, как оказалось, специальную машину. Мороз был очень сильный, а я был в легких сапогах и тонких носках, и у меня начали отмерзать ноги. Тогда конвоиры завели меня в пассажирский зал, очистили угол от публики, сняли с меня сапоги и начали растирать ноги. Он нестерпимой боли я чуть не крича
В этот момент мимо нас прошел мой бывший секретарь по управлению Ивановской областной милиции — Яковлев — в милицейской форме. Увидев меня, он побледнел и отвернулся.
Наконец прибыл ярославский «черный ворон», в который меня посадили и повезли.
Вскоре машина подъехала к зданию Ярославской городской тюрьмы, где я неоднократно бывал, проверяя, как содержатся крупные уголовные преступники.
В тюрьме принимал меня старик вахтер, оказавшийся бывшим проводником служебных собак, работавший ранее в Ярославской городской милиции и хорошо меня знавший. Обыскивая меня, он соболезнующе качал головой и как бы в оправдание говорил:
— Вот, перевели меня теперь сюда на работу. Приходится и такими вещами заниматься.
Когда закончились все формальности приема, он сказал:
— Есть приказ поместить вас в спецкамеру. Вы уж на меня не обижайтесь. Ведь от меня ничего не зависит.
Меня провели через коридор, напоминающий могильный склеп, и подвели к дверям, на которых висел огромный замок, как на складских помещениях. Сопровождающий меня дежурный большим ключом открыл замок, а затем вторым внутренним ключом открыл дверь, и я очутился в своем новом жилище.
Это была та самая камера, в которой содержался перед расстрелом пойманный в период моей работы в Иванове бандит Панов. Я никак не мог понять, зачем меня вообще привезли в Ярославль и помещают в камеру смертников.
В камере размером 3x3 метра не было ни нар, ни койки, одни голые каменные стены и такой же пол. Наверху маленькое зарешеченное окошечко без стекла, в которое свет почти не проникал, зато вовсю дул февральский студеный ветер. В углу камеры стояла доверху наполненная моими предшественниками параша.
За окном слышался лай собак. По-видимому, тюрьма снаружи охранялась овчарками.
Дежурный сухо сообщил, что три раза в день мне будут приносить пищу, закрыл дверь на замок, и я остался в полном одиночестве. В отличие от всех других тюрем здесь никто из вахтеров в коридоре не дежурил.
Один раз ужин мне принес новый вахтер в пограничной форме, видимо, недавно демобилизованный. Это был молодой брюнет, выше среднего роста, державшийся подтянуто, по-военному.
— За что сидите? — поставив мне кипяток, вполголоса спросил он.
Обрадовавшись его вопросу, я кратко рассказал ему свою историю, закончив тем, что меня, по-видимому, расстреляют.
Бывший пограничник слушал меня с явным сочувствием, и поэтому я осмелился попросить у него закурить. Больше всего я страдал от отсутствия папирос. Он ответил, что, к сожалению, не курит. Пожелал мне спокойной ночи и ушел.
Я, как обычно, улегся в центре камеры, скорчившись на холодных камнях.
Часа через два-три, когда я уже начал засыпать, вдруг послышался шорох. Думая, что это крысы, которые довольно часто бегали по камере и которых я очень боялся еще с детства, я вскочил. Но, приглядевшись, увидел, что в довольно широкую щель под дверью кто-то просовывает две пачки папирос «Казбек», две пачки махорки, коробку спичек и нарезанную на закрутки чистую бумагу.
— Возьмите и не волнуйтесь, — подойдя к двери, услышал я шепот.
От волнения и благодарности я не смог выговорить ни слова — спазм перехватил горло.
К моему величайшему огорчению, больше я этого вахтера не видел. Но, где бы он ни был, если жив, пусть знает, что я всю жизнь вспоминаю о нем с огромной благодарностью.
Через шесть суток, 5 февраля, меня отправили под усиленным конвоем в арестантском вагоне в Иваново.
Ивановская тюрьм
Когда меня в наручниках вывели из вагона, я увидел на перроне примерно двадцать пять сотрудников в форме НКВД с обнаженным оружием и четырех проводников со служебными собаками.
Из этой группы мне были знакомы: Нарейко (ранее рядовой оперативник УНКВД), начальник внутренней тюрьмы Москвин и бывший при мне начальником одного из отделений особого отдела Серебряков. Как потом оказалось, среди встречавших были также новый начальник УНКВД (сменивший переведенного в Москву Журавлева) Блинов, начальник следственной части Рязанцев и другие незнакомые мне работники. Вдалеке маячили мои бывшие подчиненные — начальник и несколько оперативных работников железнодорожной милиции.
Невольно вспомнилось, как год с небольшим назад меня провожали на этом же вокзале, когда я получил назначение в Новосибирск. Тогда здесь собрались работники обкома и горкома партии, облисполкома, горсовета, не говоря уже почти обо всех оперативных и рядовых работниках милиции, представителей воинского гарнизона, руководящих работников НКВД и т.п. Мои проводы походили на какой-то торжественный митинг, где выступало много товарищей с теплыми напутственными словами, гремел оркестр, а затем я произносил прощальные слова со ступенек вагона. И вот теперь меня встречают на том же самом вокзале как какого-то крупного, особо опасного международного бандита, шпиона и террориста.
Видимо, для пущего эффекта начальник УНКВД Блинов пустил всю процессию, сопровождавшую меня, через зал первого класса, где скопилось большое количество пассажиров. Их задержали во время прибытия моего вагона в зале, не выпуская на перрон.
Многие жители города знали меня в лицо, и, когда меня вели через зал, слышался приглушенный говор: «Вот ведут бывшего начальника милиции...» А какой-то громкий мужской голос произнес: «Неужели это Михаил Павлович?»
На привокзальной площади меня ожидал «черный ворон» и стояло несколько легковых машин, видимо, для начальства. Вскоре я был доставлен во внутреннюю тюрьму
УНКВД Ивановской области. Меня ввели в кабинет начальника тюрьмы Москвина, стали обыскивать и оформлять документы о моем поступлении.
Вдруг дверь с шумом распахнулась и в нее развязной начальственной походкой вошли Нарейко и Серебряков.
— Ну что, фашистская б...! — заорал Нарейко. — Думал в Москве выкрутиться? Мы тебе покажем!
— Что ты можешь мне показать? — спросил я, помня ничтожную сущность Нарейко в прежние годы.
— Ах ты, сволочь, как ты смеешь мне тыкать? — еще громче заорал Нарейко и ударил меня по лицу.
Серебряков тоже стукнул меня. Затем они вышли. Москвин, неодобрительно и соболезнующе покачав головой, сказал:
— Ничего не поделаешь, Михаил Павлович. Начальство.
На мой вопрос, кем же они работают сейчас, Москвин ответил, что Нарейко — заместитель начальника УНКВД, а Серебряков — его помощник.
Затем Москвин извиняющимся голосом сказал, что имеет указание поместить меня в особую камеру и что сделать для меня ничего не может.
Меня спустили в подвальное помещение тюрьмы и закрыли в камере, где стояла невыносимая жара. К раскаленным стенам невозможно было прикоснуться, они жгли руки. В камере-печке меня продержали почти сутки, а потом перевели в камеру-ледник. И если в первой я вынужден был раздеваться догола, чтобы хоть как-нибудь перенести жару, то здесь я никак не мог согреться — стены и пол были обледенелыми.
Работая в Иванове более четырех лет начальником милиции, я даже не представлял себе, что во внутренней тюрьме НКВД, недалеко от моего служебного кабинета, находились подобные камеры. Когда они были сделаны, мне неизвестно.
Вскоре в камере-леднике я стал совершенно замерзать, начал громко кричать и требовать начальство.
На мои крики пришел один из братьев Павленко. (Братья работали вахтерами в тюрьме еще при мне.) Он стал отчитывать меня за шум, ругаясь последними словами.
— Как ты смеешь разговаривать со мною в таком то не, — возмутился я, — ведь ты еще недавно стоял передо мною, держа руки по швам!
Вместо ответа Павленко ударил меня и захлопнул дверь. Минут через тридцать дверь с шумом открылась, и в камеру вошел неизвестный мне человек, худощавый брюнет, в сопровождении начальника тюрьмы Москвина и Павленко.
— Ты что, гад, бунт устраиваешь! — сказал он. — Это тебе не Москва, где твои приятели хотели тебя вызволить...
На мой вопрос, с кем имею честь говорить, он ответил:
— Скоро узнаешь, сволочь. Предупреждаю: будешь шуметь — мы тебя посадим в такую камеру, что эта покажется
раем.
Это был знаменитый палач — начальник следственной части УНКВД Рязанцев.
На следующий день меня перевели в общую камеру внутренней тюрьмы. Это была одиночка, но сейчас в ней размещались пятеро. Там находились: мой друг, бывший городской прокурор, а затем председатель Ивановского горисполкома Василий Артемьев, заведующий облоно Севанюк, некий сомнительный инженер Калинин и старик священник из Лежневского района. Все они очень тепло меня приняли.
От Артемьева и Севанюка я узнал о том, что творится в Ивановском НКВД. Они рассказали, что, когда в Иваново прибыл новый начальник УНКВД Валентин Журавлев (а затем — сменивший его Блинов), начались массовые аресты всех тех партийных и советских руководящих работников, которые уцелели при Радзивиловском. Многие из этих арестованных были выдвиженцами из рабочих, в том числе — бывший секретарь горкома партии Кучерова, которая до этого работала швеей на фабрике имени 8 Марта, затем была избрана секретарем парторганизации фабрики, а после ареста Носова и других партийных руководителей была выдвинута третьим секретарем горкома партии. Кучерова и ряд других женщин-партработников Иванова находились в соседней с нами камере, и Артемьев все время с ними перестукивался.
Артемьев рассказал о страшных пытках, которые применяют палачи из группы Журавлева, Блинова, Рязанцева, Софронова и других. Он особенно подчеркивал зверства
Нарейко, Серебрякова, Волкова, братьев Павленко, Кононова, Козлова А., Цирулева. Называл еще кого-то, но всех фамилий я уже не помню.
Артемьев рассказал, что ему устроили очную ставку с Кучеровой, причем обоих по очереди били на этой очной ставке, поскольку они отказывались давать показания друг на друга. Кучерову раздевали почти догола и били по груди. В конце концов Артемьев не выдержал пыток и подписал написанные следователем «показания», что он является немецким шпионом и членом правотроцкистской организации. Затем в присутствии секретаря обкома партии Седина он от своих показаний отказался, рассчитывая, что Седин примет меры к правильному разбору дела, но вместо этого Артемьева снова стали пытать, и он вынужден был снова подписать ранее подписанные ложные показания и добавить к ним, что он еще и японский шпион.
От Артемьева же я узнал, что в одной из камер лежит тяжело избитый, с проломленным черепом бывший третий секретарь обкома партии Константин Иванович Шульцев, который также отказался в присутствии Седина от подписанных ранее под пытками ложных показаний, после чего был зверски избит. (Впоследствии все это мне подтвердил сам К. И. Шульцев, который уцелел чудом.)
Наслушавшись в камере обо всех этих ужасах, я сначала не хотел всему этому верить. Мне казалось, что хуже того, что было со мною в Москве, уже быть не может. Но в эту же ночь я убедился, насколько точны и даже не полны были все рассказы моих сокамерников.
В ночь на 9 февраля я был вызван и доставлен на допрос к Рязанцеву. В кабинете уже находились Нарейко, Серебряков, Цирулев и Кононов.
— Ну как, будем говорить? — как только меня ввели, обратился ко мне с вопросом Рязанцев.
— О чем?
— Ах ты, сволочь! Ты не знаешь, о чем говорить? — сорвался со своего места Нарейко, и не успел я опомниться, как он сильнейшим ударом в голову сбил меня с ног.
После этого все присутствующие в кабинете набросились на меня, стали бить резиновыми палками, топтать сапогами. Не в силах вынести резкую боль, я стал кричать, и один из них (как потом оказалось, Кононов) попытался рукой зажать мне рот. Я, обороняясь, укусил его.
— Ах, сволочь, ты еще кусаться? — заорал Кононов и, подняв меня с полу, с помощью других завязал мне тряпкой рот. На руки надели наручники, связали ноги, свалили меня на пол, и снова начался бандитский шабаш.
Когда я был уже почти без сознания, избиение прекратилось, и я услышал приглушенный голос:
— Поднимите его и посадите на табуретку. Снимите повязку со рта.
В этот момент я увидел перед собою человека в звании капитана госбезопасности.
Зачем вы доводите следователей до такого состояния? Вы бы по-хорошему рассказали о своей контрреволюционной шпионской деятельности и избежали бы этих неприятностей.
— Разрешите узнать, кто вы такой, — спросил я.
— Я — начальник управления Блинов.
Гражданин капитан, — обратился я к нему, — я был на допросе у Берии, который обещал мне разобраться с моим делом. Он заверил, что меня никто бить не будет. Как же вы допускаете, чтобы надо мною так издевались?
Я не знаю, что тебе обещал Берия, — резко сказал Блинов. — Но у меня есть другой приказ — стереть тебя в порошок, но добиться признания. Нам известно, что твои московские дружки хотели тебя освободить, и тебе придется рассказать о тех следователях, которые это хотели сделать. Например, о Чернове.
Я удивился: Чернов не только не собирался меня освобождать, а наоборот — зверски избивал. Я сказал об этом. Но Блинов, не слушая меня, продолжал:
— Кстати, расскажешь нам о своем приятеле, начальнике главного управления милиции Чернышеве*1, который оказался матерым шпионом. А ведь я перед этой сволочью недавно стоял чуть ли не «руки по швам», — обращаясь уже ко всем присутствующим, клеймил Блинов Чернышева. — Еле выпросил у него пятьдесят тысяч рублей на постройку нового дома для работников милиции.
_____
*1. В. В. Чернышев репрессиям не подвергался.
Я слушал и отказывался верить слышанному. Неужели и Василия Васильевича постигла эта страшная участь и он по чьему-нибудь наговору оклеветан и арестован?
Гражданин начальник, — обратился я к Блинову.— Это ложь! Василий Васильевич Чернышев не может быть шпионом и предателем!
Учти, тебе не удастся нас провести, — оборвал меня Блинов и вышел из кабинета.
После его ухода продолжался «допрос». Очнулся я уже в камере и от товарищей узнал, что меня притащили волоком.
Таково было начало.
Артемьев и другие товарищи прикладывали к моему избитому и окровавленному телу мокрые носовые платки и полотенца. В голове страшно шумело, я почти ничего не соображал и только к вечеру немного пришел в себя. Видя, в каком я состоянии, и зная на собственном опыте бесполезность сопротивления, Артемьев начал уговаривать меня, чтобы я лучше что-либо сочинил, чем подвергаться подобному избиению.
— Ведь нас все равно расстреляют, — говорил Артемьев, — так зачем напрасные мучения? Чем скорее расстреляют — тем лучше.
Но у меня еще были силы держаться, и я наивно утверждал, что скорее умру, чем подпишу на себя и на других ложные показания.
Добрый старик, лежневский священник, особенно остро переживал издевательства и утешал меня, как мог. Он всячески пытался отвлечь нас от грустных мыслей всевозможными веселыми рассказами из монастырской жизни. Однажды, когда избитый до полусмерти Севанюк возвратился в камеру и в отчаянии стал говорить: «Что же делать? Может быть, начать молиться Богу и просить его избавить от пыток?» — лежневский священник серьезно ответил: «Нет, Бог в этих делах не помощник». А ведь он был верующим.
Во время многих последующих допросов, неизменно заканчивающихся избиениями, Нарейко, Рязанцев и другие следователи зачитывали показания, данные на меня арестованными доктором Дунаевым, бывшим заместителем Стырне — Хорхориным, моим земляком Клебанским
иди другими. Правда, мне никогда не показывали этих показаний, а только читали вс
Показания были лишены даже внешнего правдоподобия. Попросту — откровенная чушь.
Я категорически отвергал все эти нелепейшие россказни, напрасно взывая к здравому смыслу следователей-палачей. Меня с еще большей злобой избивали, топтали ногами, били по половым органам и всячески изощрялись, выдумывая все более садистские пытки.
Как-то на очередном допросе у Рязанцева кроме обычных подручных Цирулева, Кононова и других я увидел маленького плюгавого человечка, который держал себя со страшной напыщенностью и важностью.
— Ты не узнал меня? — небрежно начальственным то ном спросил он.
— Что-то я не помню, когда пил с вами на брудершафт, — ответил я.
— Ах ты, фашистский гад! Ты еще издеваешься? Помнишь, как приезжал к нам в Юрьев-Польск? Да где тебе помнить, ты был большим начальником, а мы — маленькие фельдъегери. Теперь видишь, как времена меняются. Ты — шпион и враг народа, и твоя жизнь находится в моих руках.
На мой вопросительный взгляд в сторону Рязанцева тот представил мне плюгавого:
Это бывший начальник следственного отдела Ивановского УНКВД товарищ Софронов. Сейчас он занимает такую же должность в УНКВД Московской области.
И заместитель начальника следственного отдела центра, — самодовольно добавил Софронов. — А кроме того, особо уполномоченный по твоему делу, направленный сюда по личному распоряжению замнаркомвнудела СССР и начальника УНКВД Московской области това рища Журавлева.
— Значит, советская власть переменилась,— сказал я.
— Откуда ты это взял? — спросил Софронов.
Раз такое ничтожество, как тебя, назначают начальником следственной части, значит, советской власти уже нет.
Софронов на несколько секунд онемел, а на лице Рязанцева я уловил мимолетную усмешку. (Позже я узнал, что Софронов соврал, что являлся заместителем начальника следственного центра, а также соврал и про Журавлева, который никогда не был замнаркома.)
Затем Софронов стал требовать от меня подписать какие-то «показания», а когда я, как обычно, категорически отказался подписывать, Софронов вскочил с места и с остервенением несколько раз ударил меня рукояткой пистолета, стараясь попадать по самым больным местам.
Когда он устал меня бить, я сказал:
— Твое счастье, что ты находишься в окружении по мощников. Будь я с тобою наедине, я бы такое говно убил одним плевком.
Софронов, брызжа слюною, стал истерически орать:
— Уберите отсюда эту фашистскую б...!
Меня увели и больше в тот вечер и ночь не допрашивали.
В следующий раз Софронов опять присутствовал на допросе и бил меня резиновой палкой, ругаясь и требуя, чтобы я подписал данные на меня кем-то липовые показания. Испытывая страшную ненависть к этому ничтожному человечишке, я в перерывах между избиениями сказал ему:
— Передай своему замнаркому Журавлеву, что напрас но он посылает допрашивать меня такого дурака, как ты. Когда-нибудь он об этом пожалеет.
Софронов опять начал истерически ругаться, орать, снова допрос прекратили и меня увели.
В последний, третий, раз, когда Софронов присутствовал на моем допросе, он уже не задавал мне вопросов и не бил, боясь новых оскорблений с моей стороны, которые, как я сразу понял, было выше его сил переносить.
Однажды на допросе Рязанцев спросил:
— Ты ведь неглупый человек. Все равно показания дашь. Но я могу облегчить твое положение. Ведь Чангули твой друг? Он оказался умнее тебя. Он во всем признался и сегодня будет уличать тебя на очной ставке.
Сначала я не поверил, что Чангули находится в Иванове, ведь я видел его в Москве в Бутырской тюрьме. Но в тот же день вечером меня снова повели к Рязанцеву, где была уже вся гоп-компания палачей.
— А ведь Чангули подтвердил свои показания даже военному прокурору! — торжествующе заявил Рязанцев. — Правда, он пару раз пытался б...вать, отказывался, но наконец понял, что это бесполезно. Сейчас ты сам в это
убедишься.
Он позвонил по телефону и приказал привести Чангули. Через несколько минут отворилась дверь, и на пороге появился похожий на привидение, истощенный и избитый Федя в сопровождении братьев Павленко и помощника начальника тюрьмы.
— Дядя Миша! — увидев меня, еще с порога крикнул Чангули. — Не верь этим провокаторам! Меня пытают, и я подписал составленный ими провокационный документ...
Больше ему не дали говорить. На него посыпались удары со всех сторон. Первым ударил его Рязанцев, затем его свалили на пол, кто-то стал зажимать ему рот, и Чангули рычал, как затравленный зверь. В эту минуту, видя, как избивают моего друга, я чуть не потерял сознание.
— Уберите эту сволочь! — заорал Рязанцев, и Чангули почти в бессознательном состоянии волоком вытащили за дверь.
Затем Рязанцев обернулся ко мне с искаженным от злобы лицом, заявляя:
— Все равно мы вас, б...ей, расстреляем.
Как мне ни было тяжело и больно за Федю, я видел, что задуманная сцена с очной ставкой провалилась. И я не смог отказать себе в маленьком удовольствии:
— А здорово у вас вышло с очной ставкой. Фокус не удался? Факир был пьян?
— Обоих, как собак, расстреляем! — заорал Рязанцев.— Но для тебя, б..., есть еще спасение, если ты дашь показания.
— Не дождетесь! — решительно сказал я.
Тут повторилось то же самое, что за две-три минуты до этого было с несчастным Федей. На меня набросилась вся орава, причем Рязанцев настолько озверел, что начал у меня на спине выплясывать каблуками лезгинку, остальные дикими голосами подвывали: «Асса, асса».
В камеру я был доставлен, как обычно, волоком.
Два дня меня не трогали, а на третий день ввели в комнату, где находились Кононов и Цирулев. Кононов подошел ко мне вплотную и полуграмотным языком стал требовать, чтобы я написал о своей шпионской работе.
Он коверкал такие слова, как «троцкизм», «террор», — выговаривать их ему было сложно.
Как вам не стыдно, Кононов, обвинять в шпионаже меня? — обратился я к нему. — Вы же были моим под чиненным почти четыре года. Разве вы когда-либо замечали мое антисоветское или антипартийное поведение? Вы же много раз одним из первых мне аплодировали. Я по мню, как однажды я встретил вас в управлении в нетрезвом виде и приказал Фролову посадить вас на трое суток. Не по этой ли причине вы так стараетесь изощряться в издевательствах надо мною? И, кстати, не за битье ли нашего брата вы получили значок «Почетный чекист»?
— Ах ты, фашистская гадина! — заорал мой бывший подчиненный. — Тебе не видать должности полицмейстера, которую обещал тебе Гитлер!
От такой чуши я остолбенел.
— Неужели ты не знаешь, Кононов, — попытался разъяснить ему я, — что Гитлер истребляет евреев и изгнал их всех из Германии? Как же он может меня, еврея, назначить полицмейстером?
— Какой ты еврей? — к моему удивлению, изрек этот болван. — Нам известно, что ты — немец и что по заданию немецкой разведки несколько лет тому назад тебе сделали для маскировки обрезание.
Несмотря на всю горечь моего положения, я рассмеялся. За смех этот, естественно, тут же пришлось платить.
— Ты, фашистская б..., еще смеяться над нами будешь,— приговаривал Кононов, ударяя меня. Затем он вышел из кабинета, оставив меня наедине с Цирулевым.
Цирулев был молодым парнем, лет 22 — 23. Кажется, он работал в НКВД фельдъегерем еще при мне, но я его плохо помнил. А теперь он вдруг оказался следователем по «важнейшим делам».
— Ну что, фашист? Долго мы будем с тобою мучиться? — подойдя ко мне, прошипел Цирулев.
— Сам ты фашист, сопляк! — парировал я.
Он размахнулся и стукнул меня в челюсть кулаком. В первое мгновение у меня потемнело в глазах, но я быстро пришел в себя и, взбешенный тем, что какой-то молокосос смеет издеваться надо мною, изо всей силы ударил его в живот, в солнечное сплетение.
Цирулев рухнул на пол. Из кармана у него вылетел револьвер и остался лежать рядом с ним на полу
В первую секунду у меня было желание пристрелить Цирулева, а затем покончить с собой. Но какая-то внутренняя сила удержала меня от этого. Как и в первые минуты ареста, когда Реденс оставил меня одного с оружием, я думал о том, что если застрелюсь, а тем более если убью Цирулева, то тем самым как бы подтвержу свою виновность и дам этим мерзавцам право утверждать, что я действительно был террористом и врагом.
Я сел на табуретку и стал ждать.
Прошло несколько секунд, которые мне показались часами. Наконец дверь с шумом открылась, и в кабинет вошел Рязанцев. Увидев лежащего на полу Цирулева и рядом с ним револьвер, он, как тигр, бросился к револьверу, сразу же схватил его, а затем закричал на меня:
— Это еще что такое?
— Наверное, со следователем от усталости стало плохо,— ответил я.
— Что ты сказки рассказываешь!
Тогда я заявил Рязанцеву, что в ответ на удары Цирулева стукнул его один раз.
— А теперь можете делать со мною, что вам угодно. Кстати, гражданин Рязанцев, — добавил я, указав на револьвер. — Если бы я захотел, то мог бы пристрелить Цирулева, а также и вас, когда вы входили в кабинет.
После этого я ожидал страшного избиения, но неожиданно Рязанцев вызвал секретаршу, велел позвонить в тюрьму, и меня увели. Цирулев все еще продолжал лежать на полу.
Когда я в камере рассказал обо всем, что произошло, товарищи предрекли мне ужасные мучения и не ошиблись. Начиная со следующего дня меня каждую ночь избивали до полусмерти. Присутствующий на допросах Цирулев, к моему удивлению, больше ни разу ко мне не притронулся, а ограничивался только площадной руганью.
Однажды Рязанцев спросил, что я могу рассказать о своей дружбе с «врагом народа», бывшим начальником административно-организационного управления ОГПУ-НКВД И.М.Островским. Я ответил, что Островского хорошо знает Берия и что вместе с Островским мне один раз пришлось быть на квартире у Берии на Арбате, а второй раз, опять-таки вместе с Островским, я был у Берии на даче под Гаграми.
Услышав фамилию Берии, Рязанцев сказал работнику, ведущему протокол, что «записывать не надо». Больше фамилия Островского никогда не произносилась на моих допросах.
Подходил к концу месяц моего пребывания в Ивановской тюрьме и девятый месяц с начала ареста. Я все еще не сдавался и ничего не хотел подписывать. (Сейчас сам поражаюсь, откуда у меня тогда хватало на это сил.)
Артемьев, которого после его «признаний» во всех приписываемых ему «грехах» перестали трогать, продолжал уговаривать меня подписать какую-либо напраслину на себя, чтобы избавиться от излишних мучений.
Но особенно рьяно уговаривал меня «признаться» подозрительный инженер Калинин. Не помню уже, что именно впервые дало нам основания заподозрить его в стукачестве, но как-то ночью Артемьев высказал подозрения о провокаторской роли Калинина и посоветовал быть с ним поосторожнее.
Настораживало нас то, что у Калинина часто возникали какие-то неожиданные болезни, требовавшие срочной врачебной помощи. Как-то утром после разноса кипятка Калинин потребовал, чтобы его повели к зубному врачу, так как у него якобы ужасно болят зубы, а ночь всю он спал как убитый и никому о своих «ужасных» болях не говорил. Через некоторое время его вызвали из камеры (к зубному врачу), и он вернулся часа через два без всяких намеков на зубную боль.
Вглядевшись в него внимательнее, я вдруг вспомнил, что у Феди Чангули, работавшего в Иванове помощником начальника тюремного отдела, был осведомитель, который обычно «обрабатывал» в тюрьме уголовных преступников. Я как-то мельком видел его при обходе тюрьмы и думаю, что это был он. (Федя Чангули позднее вспоминал, что его настоящая фамилия была Пестов, но у нас в камере он был под фамилией Калинин.)
— Скажите, Калинин, — обратился я к нему, — давно ли вы ходите в инженерах? Не вас ли я видел в первой тюрьме в камере уголовников?
— Вы ошибаетесь, — растерянно пытался он оправдаться, — я инженер с фабрики имени Дзержинского... меня обвиняют во вредительстве..
Я не стал продолжать этот разговор, но его тон и растерянность убеждали, что наши опасения вполне обоснованны.
Наступило 8 марта. Мы решили поздравить сидевших в соседней камере женщин с праздником.
Мы начали «стучать» женщинам поздравление, причем больше всех старался Калинин, инструктируя, как надо перестукиваться.
Из женской камеры нам передали, что им известно о моем нахождении в тюрьме и что они желают мне бодрости и здоровья.
Через некоторое время Калинин опять чем-то заболел, и его вызвали к врачу. Теперь уже всем нам было ясно, что он отправился докладывать начальству о нашем перестукивании.
Пока Калинина не было, я договорился с Артемьевым, что, когда он вернется, я нарочно спровоцирую его и расскажу при нем какую-нибудь чушь, чтобы вывести на чистую воду этого «инженера». И вот, когда он вернулся в камеру, я довольно громко стал рассказывать Артемьеву, что немного знаком с резидентом итальянской разведки Квазимодо. (Я был уверен, что «инженер» Калинин не читал Виктора Гюго и примет мое заявление за чистую монету.)
Все произошло именно так, как мы с Артемьевым предполагали. Часа через два-три Калинин снова по каким-то срочным надобностям отпросился у вахтера к врачу, а затем, когда вечером меня вызвали на допрос, Рязанцев, который, как оказалось, тоже не читал Гюго, с места в карьер потребовал:
— А ну, гад, рассказывай, знакома ли тебе фамилия Квазимодо?
Я ответил, что это не фамилия, а имя, и оно мне, конечно, известно, поскольку я читал романы Гюго.
— Ты, что б..., о каком-то Гюго болтаешь? Ты лучше расскажи о своих связях с резидентом итальянской разведки Квазимодо!
Тогда я, не отказав себе в удовольствии, выразил удивление, как могло случиться, что такой умный и знающий человек, как он — начальник следственной части Рязанцев,— вдруг забыл о таком популярном персонаже из всемирно известного и несколько раз экранизированного романа «Собор Парижской богоматери» Виктора Гюго. А затем пояснил, что специально рассказал о Квазимодо в камере, чтобы разоблачить узнанного мною Калинина, бывшего подсадчика в камерах уголовников и самого бывшего уголовника.
Рязанцев пришел в неистовство. Он изрыгал проклятия по моему адресу, а я, в свою очередь, стараясь перекричать его, доказывал, что всем в камере уже известно, что Калинин — стукач, и лучше будет, если его от нас уберут.
К моему удивлению, в тот вечер меня не стали избивать. Рязанцев, продолжая ругаться, вызвал конвой и приказал меня увести. А на следующий день дверь нашей камеры открылась и вахтер буркнул: «Калинин, собирайтесь с вещами». Больше мы его не видели. Освобождение от стукача было воспринято товарищами по камере как наша маленькая победа.
Однако мне от этого не было легче. Избиения и пытки становились совершенно невыносимыми. Моя твердость была надломлена, я до предела был измучен физически и морально и начал доходить до того страшного состояния, когда подследственный начинает думать о смерти как об избавлении.
Однажды поздно ночью меня разбудили и повели на допрос к Рязанцеву. Там уже находились Нарейко, Цирулев и Кононов.
— Ну что, будем говорить? — как всегда в начале до проса, обратился ко мне Рязанцев.
— Мне не в чем признаваться,— как всегда, ответил я. Тогда Рязанцев открыл какую-то папку и зачитал мне
текст постановления: «Слушали: дело по обвинению Шрейдера М. П. по статье 58-1 (затем перечислялись почти все подпункты этой статьи), изобличается показаниями ряда лиц: Дунаева, Хорхорина, Чангули, Клебанского (и других). Постановили: Шрейдера М. П. за совершенные преступления — расстрелять. Председатель особой тройки Блинов, секретарь (фамилии не помню)».
— На, подпиши, что тебе объявили, — протягивая мне ручку, сказал Рязанцев и тут же добавил: — Но пока еще в наших силах отменить это постановление. Поэтому давай лучше расскажи мне всю правду.
Растерявшись, я словно окаменел. Мое лицо покрылось холодным потом. Я был не в силах сообразить, что произошло и что мне надо делать. Наконец, собравшись с мыслями и понимая, что в подобной ситуации нужно вести себя достойно, чтобы не дать повода этим подлецам рассказывать обо мне как о трусе, я кое-как подписал, не читая, подсунутую мне бумагу и каким-то чужим, незнакомым мне самому голосом произнес:
— Я ни в чем не виновен... Но, конечно, в вашей власти творить все, что угодно.
— Оденьте наручники, — приказал Рязанцев Кононову. А затем скомандовал мне: — Встать!
С трудом я поднялся на ноги. Цирулев и Кононов подхватили меня под руки. Вперед пошел Рязанцев, за ним Нарейко, в коридоре стояли два брата Павленко. Работая начальником милиции в Иванове, я знал, что братья Павленко являлись исполнителями смертных приговоров, поэтому, увидев их, понял, что меня ведут на расстрел.
Рязанцев, Нарейко и братья Павленко обнажили оружие, и вся наша группа спустилась на нижний этаж, а затем, возле центральной лестницы, в подвальное помещение.
Я как-то обмяк, плохо соображал, чувствовал, что вот-вот потеряю сознание, но делал усилие над собою, чтобы не упасть.
Цирулев и Кононов подтолкнули меня в глубь подвала и поставили лицом к стене.
— Ну, еще не поздно. Будешь говорить? — услышал я глухой, как мне показалось, голос Рязанцева, видимо, искаженный подвальной акустикой.
— Нечего мне говорить! — собрав остатки сил, крикнул я. — Стреляйте, собаки!
Прошло мгновение, раздались выстрелы: один, второй, третий. Было какое-то жуткое понимание, что все кончено, что я уже мертв. Но почему-то я не ощущал боли и не падал. Раздалось еще два выстрела, и снова я не падал и не чувствовал боли. И вдруг в подвале раздался громкий раскатистый смех.
— Ну, что, говнюк, насрал в штаны? — крикнул Нарейко.
Двое из бандитов подошли ко мне, схватили под руки и потащили обратно из подвала.
После всего пережитого ноги у меня подкашивались. Я ни о чем уже не думал, кроме смерти, которая избавила бы меня от всего этого ужаса.
— Иди быстрее, б...юга, — ругались державшие меня под руки. Но я был не в силах передвигать ноги, ставшие ватными.
— Сзади громко смеялись Рязанцев и Нарейко. Через несколько секунд я немного пришел в себя и обернулся:
Ну, бандиты, вам это даром не пройдет!..
Замолчи, сволочь! — подбежав ко мне и сунув к мо ему лицу кулак, зашипел Рязанцев.
Выкрикнув это, я, конечно, ни на секунду не мог подумать, что останусь жив и тем более что смогу отомстить палачам Рязанцеву, Нарейко и другим. Это был крик человека, доведенного до последней степени отчаяния.
Как я попал в камеру, не помню. Когда я очнулся, надо мною стоял тюремный фельдшер-старик, ранее работавший в санчасти милиции. Первое, что я услышал, когда начал приходить в себя, были его слова: «Ну, кажется, все в порядке». Увидев, что я открыл глаза, он тут же повернулся и ушел.
Товарищи по камере, как могли, ухаживали за мною, прикладывали к голове влажные платки, гладили по плечам и рукам, говорили всякие ласковые и успокоительные слова, но только часа через полтора я наконец оправился настолько, что мог рассказать им, что произошло со мною в ту страшную ночь.
Все были потрясены моим рассказом. Священник Лежневского района, добрейший старик, сокрушенно качал головой и бормотал: «Боже мой, Боже мой, как ты допускаешь это, Боже мой! Что же это делается?»
Я понимал, что после сегодняшней инсценировки завтра или послезавтра эти бандиты могут расстрелять меня по-настоящему. Артемьева и Севанюка, обвиняемых в «шпионской» деятельности, также, видимо, расстреляют, и никто никогда не узнает, что я и они были ни в чем не повинны. Старика священника обвиняли в каких-то незначительных антисоветских высказываниях, и я подумал, что он — единственный человек в камере, который имеет шансы сохранить жизнь.
— Знаете, батюшка, о чем я вас попрошу Старик с готовностью пододвинулся ко мне
— Я — коммунист и в Бога не верю, но вижу, что вы честный человек, и, несмотря на различие наших взглядов, мне кажется, что вы не откажетесь исполнить мою пред смертную просьбу. Я знаю, что меня не сегодня-завтра расстреляют, а у меня в Москве остались жена и сын. (Я несколько раз повторил адрес: Большой Кисельный переулок, 5, квартира 3.) Если у вас когда-либо будет возможность, найдите мою семью и передайте им, что я умер честным коммунистом. (Я был в таком полусумасшедшем состоянии, что забыл о том, что у меня не один, а два сына.)
Михаил Павлович, — перекрестившись, торжествен но сказал священник, — если буду жив, крестом клянусь, что выполню вашу последнюю просьбу.
(Летом 1938 года этот замечательный старик священник приехал в Москву, привез моей жене антоновских яблок, запомнив из моих рассказов в камере, что она их очень любит, и рассказал, что сидел со мною вместе в Ивановской тюрьме, что меня, по-видимому, расстреляют и что я ни в чем не виноват.
Увидев в квартире двоих малышей, старик забеспокоился и подумал, не произошла ли ошибка, так как я говорил об одном сыне. Тогда жена показала ему нашу семейную фотографию, на которой он сразу же узнал меня и увидел двоих ребят. Жена была потрясена его рассказом и взволнована тем, что я забыл о том, что у нас есть второй сын. Она испугалась, что у меня помутился разум.)
Пережитый мною кошмар с расстрелом не давал мне покоя. Сутки или двое меня не вызывали на допрос, и я все время думал, что же мне делать дальше. Что предпринять, чтобы поскорее избавиться от физических и моральных пыток? Подтвердить показания, «выбитые» у товарищей? Но какие? Ведь я не знал, кто из них еще жив (за исключением Чангули, которого недавно видел), а кто, может быть, уже расстрелян. Мое подтверждение могло усугубить их судьбу. Послушаться Артемьева и самому выдумать о себе какую-нибудь нелепицу? Но какую? И, кроме того, если сочинять признания о какой-то шпионской организации, то надо назвать хотя бы одного-двух сообщников. А кого же я могу поставить под удар? Ранее расстрелянных, заведомо мертвых?
И тут я впервые стал думать о том, что если умереть, так с музыкой — и потащить за собою под расстрел кого-нибудь из моих палачей и садистов, на совести которых сотни, а может быть, и тысячи ни в чем не повинных людей.
Я стал лихорадочно обдумывать, кого из них смогу «прихватить» с собой. С Рязанцевым я ранее никогда не встречался и никаких подробностей о его прежней жизни не знаю. Цирулев и Кононов — слишком мелкая сошка. Значит — Нарейко. Ведь он работал в Иванове одновременно со мною, и у нас с ним были кое-какие точки соприкосновения по работе. Можно будет что-нибудь придумать...
Ничего не говоря товарищам по камере, я вызвал вахтера и сказал, что хочу признаться в своих преступлениях лично начальнику УНКВД Блинову.
Артемьев и Севанюк, услышав мое заявление, стали расспрашивать, что я задумал и о чем собираюсь говорить, но я не хотел раскрывать им заранее свой план.
— Узнаете после допроса, — пообещал я.
Вскоре меня вызвали и привели в кабинет Блинова, где находился начальник следственной части Рязанцев.
— Гражданин начальник, — обратился я к Блинову,— мне надо поговорить с вами наедине.
— Ну что ж, наедине, так наедине, — довольно снисходительно разрешил Блинов. — Товарищ Рязанцев, вый дите ненадолго в секретариат.
Когда Рязанцев вышел, я, прежде чем привести в исполнение задуманный план, решил воспользоваться тем, что мы с Блиновым остались без свидетелей, и попытаться призвать к его здравому рассудку: он же не мог не понимать, что я ни в чем не виноват. Но Блинов, услышав мои слова, озверел и стал дико ругаться:
— Ах ты, сволочь этакая! Так ты для того меня бес покоил, чтобы я выслушивал твою липу?
Я понял бесполезность своих попыток разумно поговорить с этим фальсификатором и заявил ему:
— Гражданин начальник, я понимаю, что моя борьба с вами в дальнейшем становится бессмысленной, поэтому я решил рассказать вам всю правду о своей вражеской деятельности. Но я опасаюсь, что вы мне не поверите, потому что я был втянут в шпионскую, вражескую организацию человеком, занимающим очень большую должность, фамилию которого я даже боюсь назвать...
Блинов, как по мановению волшебной палочки, из грубого хама превратился в любезного и внимательного собеседника и вдруг стал называть меня на «вы».
Что вы, Михаил Павлович. Вы же сами были крупным работником, и нам отлично известно, какую большую, руководящую роль вы играли в правотроцкистском центре. Поэтому, пожалуйста, рассказывайте обо всем и ничего не бойтесь. Скажите, кто вас вербовал и чью фамилию вы боитесь назвать?
— Я являюсь шпионом и членом правотроцкистской организации, в которую меня завербовал ваш заместитель... Нарейко... — с видом кающегося грешника, опустив голову, сказал я.
— Я так и знал! — торжествующе воскликнул Блинов, не дав мне закончить фразу, от радости хлопнув себя по ляжкам. — Значит, я не ошибался!
В первый момент я был так ошеломлен его готовностью ухватиться за любую провокацию, что на несколько секунд потерял дар речи. Но затем обрадовался, что мой план удается и я смогу отомстить отъявленному палачу Нарейко, а в дальнейшем, возможно, кому-либо еще. И я стал сочинять обстоятельства моей вербовки.
Насколько помню, примерно я рассказал следующее.
Будучи начальником отделения особого отдела, обслуживающего оперативно милицию, Нарейко ежедневно приходил ко мне с докладами о положении в милиции. (Это действительно имело место.) И вот якобы в то время он узнал о моих связях с женщиной, по национальности — немкой, которая работала в немецкой разведке. Придя ко мне с очередным докладом, Нарейко сказал, что ему известно все о моем сотрудничестве с немецкой разведкой, и предъявил мне ультиматум: я должен дать согласие на сотрудничество вместе с ним в японской разведке, в противном случае он меня разоблачит как немецкого шпиона. (Надо сказать, что женщина-немка действительно существовала: она была женой администратора Ивановского народного Дома, но сохраняла немецкое подданство. Кажется, в 1937 году была получена директива НКВД СССР об аннулировании виз всем иностранцам, подданным других государств, проживающим на территории СССР. Эта работа возлагалась на органы милиции, так как нам подчинялось Бюро виз и регистрации иностранцев. И в тех случаях, когда начальник Бюро виз не мог самостоятельно разрешить какой-либо вопрос, он вместе с тем или иным иностранцем приходил на прием ко мне или к моему заместителю. Как-то мне позвонил по телефону художественный руководитель и главный режиссер Ивановского драмтеатра, заслуженный артист республики Курский и попросил меня оставить в Иванове жену администратора театра, по национальности немку. Со слов Курского, она была дочерью антифашиста, томящегося в гитлеровском концлагере, и высылка ее в Германию была равносильна расстрелу. Об этом же меня просил начальник отдела культуры облисполкома Давыдов. Я доложил Стырне, который сказал, что не может нарушать директиву центра, приказал аннулировать ее визу и никаких исключений для нее не делать. Когда после этого немка явилась ко мне и стала просить оставить ее в Советском Союзе, я объяснил ей, что это не в моей власти, и она, как и другие иностранцы, вынуждена была выехать за пределы Советского Союза. Вот эту историю с немкой я и использовал для своей липовой версии о том, как «вербовал» меня Нарейко.)
Блинов предложил мне написать на его имя заявление с моим признанием. Но я, насколько помню, сказал, что очень взволнован, у меня дрожат руки, и поэтому прошу, чтобы текст написал он сам, а я подпишу.
Когда мое «признание» было оформлено Блиновым и подписано мною, Блинов вызвал Рязанцева и сказал ему:
— А мы с вами не ошиблись.
И, обращаясь ко мне, попросил повторить вкратце сказанное мною ему.
Рязанцев, услышав мое сообщение о Нарейко, тоже радостно всплеснул руками и с улыбкой кота, которому под нос сунули горшок со сметаной, начал с восторгом потирать кисти рук.
— Вот это да! Вот это дело! — приговаривал он.
Гражданин Рязанцев, — добавил я для подкрепления своих признаний. — Вы обратили внимание, что Нарейко первым стал меня избивать? Неужели вам не бросилось в глаза, что заместитель начальника УНКВД делает это нарочито, с особым старанием? Ведь если вы меня били, то вам так положено — вы мои следователи, а ведь он прямого отношения к моему делу не имеет. А ларчик открывается просто. Мы заранее договорились, что в случае провала кого-либо из нас оставшийся на свободе будет с целью маскировки особенно озлобленно бить попавшегося.
— Вот б... какая, — выругался в адрес Нарейко Рязанцев. Вся подоплека такой реакции видна была мне как на
ладони. Рязанцев, несомненно, метил на должность заместителя начальника УНКВД и поэтому с такой радостью воспринял мое заявление. (Как я узнал потом, Блинов тоже был очень рад «разоблачению» Нарейко, поскольку последний являлся депутатом Верховного Совета РСФСР и членом бюро обкома партии, а сам Блинов депутатом не был и, естественно, предпочитал иметь своим заместителем не депутата.) Блинов и Рязанцев даже не пытались сообразить, что если бы Нарейко попал под следствие, то я в своей прежней должности начальника милиции не имел бы к этому никакого отношения и не мог бы бить Нарейко на допросах...
От радости, что я наконец подписал заявление о своей вражеской деятельности, Блинов тут же отдал распоряжение Рязанцеву отправить меня «на отдых» и подкормить.
Как только меня водворили обратно в камеру (а это было часов в 10 вечера), вдруг открылась дверь, и вахтер передал мне белый батон, колбасу, сушки и папиросы.
Товарищи по камере, еще ничего не знавшие, были поражены таким роскошеством. Я рассказал им все, что произошло.
Артемьев был настолько взволнован моим рассказом, что обнял меня, стал целовать и плакать.
— Молодец! Умница, Михаил Павлович! — сквозь слезы восклицал он. — Как ты здорово придумал. Угробил такого подлеца и палача! Теперь мы можем спокойно умереть. Но идиоты-то какие? Сразу поверили!
Пользуясь тем, что Калинина от нас забрали, а других стукачей в камере не было, мы с Артемьевым и Севанюком долго еще шепотом на все лады обсуждали случившееся, поражаясь и недоумевая, чем же, в конце концов, руководствуются наши палачи-фальсификаторы: шпиономанией, глупостью, предельной человеческой подлостью или всем, вместе взятым? Верят ли они сами в свои фальсификации или все их слова и действия не что иное, как поза и наигрыш?
Назавтра после моего «признания» меня вызвали к Рязанцеву, который встретил меня, как родного брата.
— Здравствуйте, Михаил Павлович, — с любезной улыбкой приветствовал он меня. — Садитесь, пожалуйста. Как вы себя чувствуете?
Это внезапное превращение палача в любезного и вежливого чиновника было поразительно!
— Ведь правда, у вас теперь стало легче на душе? И нам вы очень, очень помогли, — без умолку болтал Рязанцев. — Мне о вас говорили, что вы крепкий орешек и долго будете отпираться, но уж если решитесь дать показания, то выложите все.
Я молча разглядывал его лицо с маленькими черными усиками и всеми силами пытался скрыть ощущение брезгливости.
— Ну так как, Михаил Павлович, теперь будем писать? — продолжал Рязанцев.
— Пишите, — сказал я.
И вот Рязанцев стал с моей помощью сочинять подробности о том, при каких обстоятельствах Нарейко вербовал меня в правотроцкистскую и шпионскую организацию.
Теперь уже не по ночам, а только днем Рязанцев вызывал меня к себе в кабинет, и мы «работали», то есть я сочинял все новые и новые подробности о моей шпионской деятельности, а по вечерам в камере обдумывал, что можно еще более или менее правдоподобного присочинить, чьи «показания» и в какой части можно подтвердить, чтобы не повредить товарищам, которые еще, возможно, живы.
С самого начала моих «признаний» Рязанцев упорно задавал мне дополнительные вопросы, пытаясь навязать активную роль во всех моих «шпионских» делах Феде Чангули.
Зная приблизительно сущность показаний, выбитых у Феди, которые мне давал читать в Москве следователь Ильицкий, а также то, что он жив и пытается опровергать их, я нарочно давал совершенно противоположные показания, надеясь, что когда-нибудь после нашей смерти люди смогут разобраться во вздорности и нелепости нашего
«дела».
Неужели вы можете поверить, что я, крупнейший шпион и разведчик, буду связываться с таким молокососом и трепачом, как Чангули? — уговаривал я Рязанцева.— Чангули никогда не подозревал, что я являюсь резидентом.
Чангули крупнейший шпион, — убежденно твердил Рязанцев. — И он пытается свалить всю вину на вас, выставляя вас как своего начальника по шпионской деятельности.
Я понимал, что Рязанцев всеми силами пытается озлобить меня против Чангули, давшего на меня показания. Но я уже слишком хорошо знал цену всем этим показаниям.
Через два дня после моего признания у Блинова мой новоиспеченный «друг» Рязанцев предупредил меня, что я должен буду подтвердить свои показания в отношении Нарейко «члену сталинского ЦК, заместителю председателя Верховного Совета РСФСР, первому секретарю Ивановского обкома Седину».
Надеясь использовать эту встречу, чтобы попытаться рассказать партийному руководству о моей и других товарищей невиновности и о страшных методах следствия, я, естественно, дал согласие. Правда, от Артемьева я слышал, что того, кто пытается отказаться от своих показаний в присутствии Седина, снова пытают и заставляют писать заявление Седину о том, что он как «враг народа» хотел обмануть партию. И все же я решил рассказать Седину всю правду.
Днем меня повели в кабинет Блинова, где находились Блинов, Рязанцев, областной прокурор Куник и военный прокурор Шемякин. В кабинете была торжественная обстановка, ждали приезда Седина. Блинов сказал Рязанцеву, чтобы тот пошел к подъезду встретить машину Седина. Но не успел Рязанцев выйти, как распахнулась дверь и вошел человек лет под сорок, плотного телосложения, свежевыбритый, пышащий здоровьем и благополучием. Рязанцев по-холуйски поторопился сыграть роль швейцара и снял с него пальто. На груди у Седина красовался орден Ленина. Поздоровавшись со всеми, Седин уселся напротив меня и спросил:
— Вы Шрейдер? Что же это вы небритый?
— Мой личный парикмахер, видите ли, не знал, что мне предстоит бал, — невесело пошутил я.
— А вам не чужд юмор, — улыбнулся Седин. — Это хорошо!.. Ну, Шрейдер, я читал ваши показания о Нарейко. Ведь речь идет о депутате Верховного Совета и члене обкома. Неужели правда то, что вы показали?
Вместо ответа я судорожным движением расстегнул ворот гимнастерки и сказал:
— Вот смотрите. Я весь избит. Вот незаживающие ра ны от ожогов, пыток и побоев. Я тоже был членом оргбюро обкома и так же баллотировался депутатом в Верховный Совет. Однако меня бьют и пытают вот уже девять месяцев.
И, чтобы избавиться от пыток и скорее умереть, я написал о том, что Нарейко вербовал меня в шпионскую организацию, но все это ложь. Нарейко просто подлец, фальсификатор и палач! За это его и надо судить. Но, конечно, такой дурак не мог быть иностранным шпионом, а тем более не мог вербовать меня, так как я никогда и никаким шпионом не был.
— Что вы мне демонстрируете свои раны, — с гримасой неудовольствия сказал Седин. — Ведь Алексей Максимович Горький сказал: «Если враг не сдается — его уничтожают!»
— Значит, гражданин Седин, вы меня считаете врагом? Но я хочу умереть честным человеком и не желаю подвергаться тем пыткам, которым подвергались после по пытки рассказать вам правду товарищи Артемьев, Шульцев и другие.
Затем я обернулся к прокурорам:
— Здесь кроме вас присутствуют два прокурора. По этому я категорически отказываюсь от показаний, данных мною под пытками, и прошу вас, как члена ЦК партии, вмешаться в мое дело и положить конец произволу, творящемуся в стенах Ивановского НКВД.
— Напрасно, Шрейдер, вы фокусничаете, — вмешался облпрокурор Куник. — То, что Нарейко японский шпион, уже подтвердили многие подследственные. Предупреждаю вас, что вы стали на неверный путь, провоцируя работников Блинова и Рязанцева, которых партия знает как преданных сынов. Что же касается ваших синяков, то мы знаем, что вы сами себе их сделали для демонстрации товарищу Седину. Вы думаете, что нам не сообщили об этом Поэтому давайте так: я как областной прокурор гарантирую вам жизнь, если вы подтвердите данные вами ранее показания. Ну, а если вы будете ломаться и фокусничать, то пеняйте на себя сами
Во время этого разговора Блинов и Рязанцев позеленели, и я каждую минуту ожидал, что вот-вот на меня посыплются удары.
— Ну что же, — убедившись в абсолютной безнадежности моих попыток добиться правды, обратился я к Се дину. — Раз вы вопреки логике и здравому смыслу так уверены, что я враг, то мне ничего не остается делать, как подтвердить ложные показания, данные под пытками. Тем более что я знаю, что меня ждет после вашего ухода. Поэтому полностью подтверждаю данные мною в отношении Нарейко показания и готов подписать их при вас.
Блинов, Рязанцев и прокуроры прямо просияли. От свирепых лиц не осталось и следа. ■
— Вот и правильно, Михаил Павлович, — также смягчившись, сказал Седин. — Лучше умереть, сняв с себя всю правотроцкистскую и шпионскую грязь. Но я подтверждаю слова товарища Куника. Мы будет ходатайствовать о сохранении вам жизни.
Тут же при Седине облпрокурор составил протокол допроса, в котором говорилось, что я подтверждаю данные мною ранее показания. Протокол кроме меня подписали Седин, Куник, военный прокурор, Блинов и Рязанцев.
Когда закончилась эта комедия, Седин обратился к Блинову, кивнув на меня:
— Вы бы побрили его. Да и вообще его надо подкормить, а то вид у него неважный.
Затем меня отправили в камеру.
В тот же день вечером я снова был вызван к Рязанцеву, который встретил меня с улыбкой, без ругани, но покачал головой, как бы укоряя за попытку отказа от показаний.
— Эх, Михаил Павлович, никогда не ожидал, что вы нас подведете и станете отказываться. Но ничего. Я теперь уже на вас не сержусь, да и Блинов вами доволен. — А затем добавил: — Вы можете быть спокойны. Товарищ Седин сдержит свое слово, и жизнь вам будет сохранена при условии, если вы впредь не будете выкидывать таких фокусов, как сегодня.
Глядя на Рязанцева, я понимал, как ничтожно мало стоят подобные заверения на фоне всей той лжи, подлости и лицемерия, в которой живут и работают следователи, прокуроры и даже руководящие партработники. Но вслух сказал:
— Вы ведь сами должны понимать, что враг так просто не сдается. Ну вот я и попытался немножко побороться с вами, думая, что член ЦК вмешается и мне удастся вас обмануть. Но разве можно обмануть такую замечательную разведку, как ваша? Ведь и более крупные фигуры, чем я, у вас признавались, потому что вы сумели их разоблачить.
И болван Рязанцев, не улавливая иронии в моих словах и принимая мои похвалы за чистую монету, прямо растаял. Стал спрашивать, не нужны ли мне папиросы и что-либо из продуктов, и на прощание дружески похлопал меня по плечу...
Затем потекли дни и вечера допросов с уточнениями показаний и выявлением все новых и новых фигур.
Мой товарищ по камере Севанюк, которого продолжали систематически избивать, после моего «признания» решил, что надо покончить с мучениями и избавить себя от пыток. Он стал советоваться со мною и Артемьевым, как быть, и мы стали помогать Севанюку придумать подходящую версию для «признания». Поскольку он работал в Монголии (как советник по просвещению по линии Наркомпроса), то мы решили, что самое для него целесообразное и правдоподобное — объявить себя японским шпионом, завербованным каким-нибудь сослуживцем, который уже давно умер, а также постараться для организации выбрать людей, уже умерших.
На следующий день Севанюк попросился на допрос и вернулся в камеру вновь испеченным «японским шпионом», а через час получил такую же продуктовую посылку, какую после своего «признания» получил я. Таким образом, в нашей камере все уже были «расколотые», нас перестали бить, и мы постепенно стали принимать человеческий вид.
Отдохнув морально и физически и окрепнув на улучшенном питании, я почувствовал, что мне уже совершенно не хочется умирать. Наоборот, я был полон энергии и решимости бороться до последнего. Обдумав все здраво, я решил, что поскольку я «признался в шпионаже», то теперь нужно как можно больше раздувать свое шпионское дело, увеличив его до масштабов, подлежащих вмешательству Москвы и передаче дела самым высшим инстанциям, чтобы тем самым исключить вероятность расстрела здесь, в Иванове. Надо только наговаривать на себя все то, что можно с легкостью опровергнуть при помощи фактов. В Москве же, как я надеялся, ситуация может измениться: вдруг попадется следователь — порядочный человек, которому мне удастся доказать абсурдность обвинения. Конечно, хорошо было бы иметь в таком деле союзника, например, Чангули, который и без того уже дал серьезные «показания» о нашей совместной шпионской деятельности. Не попробовать ли предложить Рязанцеву устроить мне с Чангули еще раз очную ставку? Но как я смогу дать понять Феде, что надо не отказываться, а наоборот — раздувать дело? Правда, Чангули уже сам предпринимал подобный метод «раздувания» своего дела, в результате чего я попал в Москву, рассчитывая найти там справедливость, но сорвалось. Теперь надо сделать новую попытку...
Продолжая «работать» с начальником следственного отдела Рязанцевым и решив «раздувать» свое дело, я стал последовательно и обдуманно подтверждать в первую очередь те показания товарищей, которые можно было бы в будущем легко опровергнуть. Мой земляк и друг детства, с которым я работал в виленском подполье в 1918 — 1919 гг., Вениамин Кульбак вместе со мною пришел на работу в органы ВЧК в особый отдел 16-й армии в сентябре 1919 года. Тогда же, в Смоленске, ему дали кличку-псевдоним — Михаил Клебанский, под которым он и работал всю последующую жизнь, в частности, в Иванове. Это обстоятельство послужило для провокаторов зацепкой, чтобы обвинить Клебанского (Кульбака) в шпионской деятельности.
В показаниях Клебанского на меня было сказано следующее: «Я завербован в польскую разведку в 1918 г. польским резидентом Мишей Шрейдером. В том же 1918 г., работая уполномоченным особого отдела МВО, я передал Шрейдеру дислокацию войск МВО для польской разведки. Наша встреча и передача этих сведений происходила на квартире Шрейдера по адресу: Москва, Б. Кисельный пер., 5, кв. 3, в присутствии жены Шрейдера — Ирины».
Услышав эти «показания», прочитанные мне Рязанцевым, я попросил «дать мне три минуты на размышление, чтобы вспомнить обстановку того времени». Мне стало и смешно и больно. Я понял, что несчастный избиваемый Клебанский, будучи опытным чекистом, нарочно дает такие липовые показания, опровергнуть которые не составляет никакого труда. Дело в том, что квартиру на Б. Кисельном переулке я получил по ордеру в ХОЗО ОГПУ лишь в 1933 году, а моя жена Ирина родилась в 1909 году, и в 1918 году ей было всего 9 лет, а мне 16. И вообще познакомился я с Ириной в 1932 году. А мой «шибко» грамотный и столь же сообразительный следователь Рязанцев не давал себе труда усомниться в этих абсурдных показаниях.
Без всяких колебаний я подтвердил «показания» Клебанского, став теперь уже и польским «шпионом».
На следующем допросе Рязанцев прочел мне «показания», данные на меня бывшим начальником СПО и помощником начальника УНКВД по Ивановской области Григорием Сергеевичем Хорхориным. Хорхорин писал:
«Шрейдер, Михаил Павлович, являлся руководителем террористической группы правотроцкистского центра по Ивановской области. Все мы входили в руководимую им группу. Когда происходили маневры войск МВО в Вязниковском районе, туда прибыли Молотов, Ворошилов и Тухачевский. Там же находился и зампред ОГПУ Георгий Евгеньевич Прокофьев. Нам было известно, что Шрейдер с несколькими ударниками-террористами должен совершить террористический акт против Молотова, Ворошилова и Тухачевского. Действительно, Шрейдер прибыл туда с несколькими работниками милиции, но получил приказ от Прокофьева приостановить террористический акт по каким-то соображениям террористического центра. О чем Шрейдер мне говорил».
Действительно, на территории Вязниковского района Ивановской промышленной области осенью 1936 года происходили маневры, но я в то время полтора месяца находился в санатории НКВД в Сочи, а затем в Кисловодске по путевкам, выданным ХОЗУ НКВД, что в любой момент могло быть подтверждено справкой из санотдела НКВД. А для обеспечения порядка в Вязники выезжал мой заместитель Лев Александрович Гумилевский. Кроме
того, фактически на эти маневры приезжал не Тухачевский, а Егоров, и Хорхорин, видимо, нарочно указал Тухачевского. Опытный чекист и умница, Хорхорин тоже дал «показания», которые с легкостью можно было опровергнуть.
Я с готовностью подтвердил показания Хорхорина и вдобавок к шпионажу в пользу Германии, Японии и Польши стал террористом и правотроцкистом.
Рязанцев (а возможно, и Блинов) зачитывал мне «показания», данные на меня Кондаковым, которого, видимо, арестовали после меня в Алма-Ате. Кондаков был уроженцем Гуся-Хрустального, где работал до того, как я перебросил его в облуправление в Иваново, а затем устроил ему перевод в Алма-Ату, что дало повод считать его моим любимцем. Хотя такими же «любимцами» были для меня и Перфильев, и Зуев, и Волоцкий, и многие другие способные оперативники, влюбленные в свое дело.
В показаниях Кондакова было написано: «Работая еще начальником отделения угрозыска в Гусе-Хрустальном, я часто видел Шрейдера, который вместе с Чангули приезжал в Гусь-Хрустальный, где организовывал притоны с проститутками и бандитами. Мне было известно, что они занимались шпионской деятельностью. Зная, что я связан с уголовным элементом, от которых получаю взятки, Шрейдер завербовал меня в шпионскую организацию, и я выполнял ряд заданий Шрейдера, но не знал, для какого государства он работает. С тех пор как он меня завербовал, он стал меня всячески выдвигать, перевел в Иваново, а переехав в Алма-Ату, добился моего назначения на должность зам.нач.угрозыска гл. упр. милиции Казахстана. С первого же дня прибытия в Алма-Ату Шрейдер начал подготавливать меня к нелегальной переброске в Западный Китай для установления связей с резидентом японской разведки. Но благодаря аресту Шрейдера это не осуществилось...»
Мне неизвестно, кто сфабриковал эти «показания» Кондакова, но, во всяком случае, я никогда не был в Гусе-Хрустальном вместе с Чангули.
Подтвердить показания Кондакова я категорически отказался. Я предполагал, что если он и арестован, то позднее всех, стало быть, у него есть шанс выжить. А японским шпионом я был уже в показаниях Феди Чангули, которые решил подтвердить, собираясь при нервом удобном случае намекнуть Рязанцеву, чтобы он устроил мне с Федей вторую очную ставку.
Во время одного из допросов в кабинет вошел Блинов с какими-то бумагами, уселся возле меня и со словами: «Вот послушайте!» — стал читать мне «показания», якобы данные В. В. Чернышевым: «Я, Чернышев Василий Васильевич, бывший замнаркомвнудел СССР по милиции, в дополнение к ранее данным мною показаниям сообщаю, что в нашу правотроцкистскую организацию входил бывший начальник управления милиции Ивановской области Шрейдер М. П., на которого были возложены кроме сбора шпионских сведений вербовка новых людей и организация террористических групп».
О Чернышеве меня допрашивали несколько раз, и я каждый раз категорически отрицал его участие в какой-либо из контрреволюционных групп, в принадлежности к которым я уже «признался», и требовал очной ставки с ним, я интуитивно чувствовал, что это — фальсифицированные показания, которых Чернышев никогда не мог написать. (До сих пор не знаю, по чьему указанию и по чьей инициативе работники Ивановского НКВД пытались спровоцировать дело на Чернышева. Но, с другой стороны, не перестаю удивляться, как мог такой человек уцелеть в окружении банды Ежова, Берии, Абакумова.)
Затем Блинов прочел мне еще чьи-то показания, в которых было сказано, что я являюсь организатором уголовных бандитов, совершавших убийства и грабежи в Ивановской области, и что милиция под моим руководством специально не ловила их с целью озлобления граждан против советской власти. Такую несусветную чушь я, конечно, отверг, сказав, что если бы я плохо работал по линии милиции, то меня выгнали бы и тогда я «провалил» бы все свои «особо важные шпионские дела»...
Когда мое «шпионское дело» разрослось уже до весьма внушительных размеров и Рязанцев стал все более и более дружелюбно относиться ко мне, иногда переходя с вежливого «вы» на панибратское «ты», этот болтун, желая поразить меня сообщением о том, каким большим авторитетом он пользуется в верхах, заявил:
— Вот теперь, Михаил Павлович, я буду просить Валентина (он так фамильярно называл Журавлева), чтобы он смягчил тебе приговор и сохранил жизнь.
Затем, хвастаясь своей осведомленностью, он спросил: — А знаешь ли ты, почему попал в Иваново? И, когда я ответил отрицательно, он продолжал:
— Журавлев получил сведения о твоем предполагаемом освобождении в Москве. Тогда он пошел к Лаврентию Павловичу и доложил ему, что в Иванове на тебя имеется восемнадцать показаний, данных твоими подчиненными и сослуживцами, и поэтому целесообразнее этапировать тебя в Иваново. Берия его просьбу удовлетворил. Видишь, как было дело. Тебе не удалось обмануть НКВД. И хорошо, что Журавлев настоял на передаче твоего дела в Иваново. Благодаря тебе мы разоблачили еще одного крупного шпиона — Нарейко. Думаю, что теперь Журавлев будет очень доволен.
Трудно описать, что я пережил, слушая хвастовство этого малограмотного и глупого палача. В то время я был уверен, что если таким идиотам вручается судьба честных людей, то, видимо, советская власть уже не существует, а портреты Сталина висят в кабинетах лишь для формы.
Затем Рязанцев стал с самодовольной улыбкой рассказывать «о героическом пути» своего дружка Валентина Журавлева.
— Ты только пойми, Михаил Павлович, какой мужественный чекист Журавлев! Ведь никто не осмелился даже слова сказать о Ежове, а он написал письмо Сталину и разоблачил Ежова как врага народа, который оставлял на свободе настоящих врагов и арестовывал иногда невинов ных людей. За это Сталин забрал Журавлева в Москву, и по его личной рекомендации на XVIII съезде партии Журавлев был избран кандидатом в члены ЦК партии.
Рязанцев еще очень много говорил о Журавлеве, Берии и других тогдашних руководителях НКВД, попутно выбалтывая ряд государственных секретов, о которых я как «враг народа» никак не должен был знать.
Конечно, Рязанцев был твердо уверен, что я, как «разоблаченный и расколовшийся шпион», человек конченый и при всех условиях буду расстрелян, поэтому он болтал обо всем совершенно спокойно, удовлетворяя свою страсть похвастаться и покрасоваться своей компетенцией и близостью к высшим сферам. В этот же период от Блинова я узнал, что арестован Радзивиловский. А из болтовни Рязанцева выяснил, что кроме Радзивиловского арестованы все его подручные: Саламатин, Юревич, Ряднов, Викторов. Правда, мне не пытались пришить связь с Радзивиловским, так как мое «шпионское дело» разрослось и без того до весьма внушительных размеров и они уже начали бояться еще больше запутывать его.
Систематическая ежедневная и ежевечерняя «работа» с Рязанцевым продолжалась примерно до 14 апреля. Мое «дело» разрасталось, как катящийся снежный ком. Я стал «шпионом», действующим в пользу Германии, Польши, Японии и Франции. За период «следствия» я все больше и больше убеждался в дремучем невежестве Рязанцева и иногда доставлял себе маленькое развлечение, выдумывая про себя несусветную чушь и каждый раз поражаясь, что этот дурак безотказно верил всему.
Вспомнив вопиюще глупое утверждение идиота Кононова о том, что я — немец, «замаскированный под еврея», я как-то «признался», что я действительно по происхождению немец, что мне для маскировки пару лет тому назад сделали обрезание. И что поэтому я поражен замечательной работой разведки НКВД, так как Кононов сразу же, в первые дни моих допросов в Иванове сообщил мне об этом.
Затем я сочинил Рязанцеву, что несколько лет тому назад был в Эфиопии и там во время одного приема у Негуса Негести я танцевал с его дочкой, с которой затем очутился в отдельной комнате, и она, одарив меня своими ласками, завербовала меня для работы в английской разведке, заверив, что я буду являться личным представителем Черчилля по шпионажу в Советском Союзе.
От этих показаний даже Рязанцев пришел в ужас.
— Михаил Павлович! А это точно? Вы меня не под ведете? — с ноткой недоверия спрашивал он.
— Что вы, гражданин Рязанцев, — делая наивные глаза и пытаясь говорить с предельно искренней интонацией, уверял его я. — Я хочу умереть достойно и смыть кровью всю шпионскую грязь.
Не помню уже, по чьим показаниям, но я оказался и турецким шпионом. В 1934 году в Турции под руководством наших специалистов строились текстильные фабрики, для которых в Иванове готовились кадры. Молодые турки студенты, проходившие практику на меланжевом комбинате и на других текстильных фабриках, жили в гостинице, где в первый год моей работы в Иванове жил и я. А когда проводился общегородской субботник по строительству новой трамвайной линии, я привлек этих молодых турок для участия в субботнике. И вообще, живя в гостинице, иногда сталкивался с ними в вестибюле и перекидывался приветствиями, поскольку после субботника мы уже как бы были немного знакомы. Это и послужило достаточным основанием для обвинения меня в шпионаже в пользу Турции.
Один только раз Рязанцев не поверил моим «признаниям», когда я объявил, что являюсь незаконнорожденным сыном императора Манчьжоу-Го Пу-И, сочинив, что в 1901 году Пу-И приезжал в Вильно, где встретился с моей матерью, которая была замечательной красавицей, в результате чего в 1902 году родился я. (Правда, это явно шло вразрез с моим уже зафиксированным немецким происхождением.)
Сначала Рязанцев покорно записал все, но потом, видимо, у него появились какие-то сомнения, и он пошел посоветоваться к Блинову, а возвратившись, сказал, что «этого лучше не записывать», так как это мало похоже на действительность.
Ну, если не верите, не пишите. Да и вообще все мои показания можете порвать. Правдоподобность их оди накова, — грустно сказал я чистую правду.
Нет, зачем же. Ничего рвать мы не будем. А насчет императора Пу-И все же лучше не надо писать.
И он порвал написанную им страницу.
На одном из очередных допросов Рязанцев, который все более и более откровенничал со мною, начал рассказывать о своих успехах на следовательском поприще в Красноярске, затем стал разглагольствовать о том, что сейчас, мол, в органах НКВД царит здоровый дух, что Берии удалось выкорчевать всех ежовских и ягодовских работников, а под конец заявил мне, что Ежов тоже оказался врагом народа.
— Ведь вы, гражданин Рязанцев, работали при Ежове, и Блинов, кажется, тоже выдвиженец Ежова? Как же так получается: сегодня вы нас бьете, а завтра вас, может быть, будут судить за то, что вы нас били?
Рязанцев явно не понял смысла сказанного мною. Он пожал плечами и заявил:
— Врагов надо бить. Если бы мы вас не били, разве вы дали бы показания?
— От битья мало толку, — отвечал я. — Дзержинский за такие вещи расстреливал следователей.
— А знаете, что нам известно, Михаил Павлович? — цинично усмехнувшись, заявил Рязанцев. — Ведь вы со стояли в ПОВ (Польская организация Войскова), а агентами ПОВ были Уншлихт и Медведь. А кроме того, мы располагаем данными, что к организации ПОВ приложил свою руку и ваш Дзержинский. Вот почему он расстреливал честных следователей, которые били врагов.
Кровь бросилась мне в голову.
— О ком вы говорите, Рязанцев? Ведь Ленин и Сталин называли Феликса Эдмундовича рыцарем революции. Это же святая святых партии, в которой вы состоите.
— А как вы думаете? — укоризненно покачал головой Рязанцев. — Случайно ли получилось, что Дзержинского, когда он находился в Варшавской цитадели, не казнили? И наконец, Ленин и Сталин были им обмануты. По край ней мере, сейчас мы располагаем такими материалами. Кстати, у нас есть сведения, что вы где-то сфотографированы с Дзержинским. В последующих беседах нам еще придется подробнее остановиться на этом. Вы нам рас скажете все, что знаете об Уншлихте, Ольском, Медведе и других агентах ПОВ.
В это время в кабинет вошел Блинов.
— Сидите, сидите, Шрейдер, — добродушно сказал Блинов, увидев, что я встал. — Как себя чувствуем? И как работается?
Я ответил, что все нормально.
— Товарищ капитан, — обратился Рязанцев к Блинову,— мы с Михаилом Павловичем ведем теоретическую беседу. Мы с ним дошли уже до ПОВ. И, представьте себе, он не верит, что Дзержинский, Уншлихт, Медведь и другие были агентами польской разведки.
— Да, Михаил Павлович, еще год тому назад и я бы не поверил, — с важностью предельно осведомленного начальника заявил Блинов. — Но сейчас мы уже в этом убедились. Я лично слыхал об этом из уст Берии, и да будет вам известно, что вся родня Дзержинского арестована и все они уже дали показания.
В этот момент я был близок к обмороку.
Подошло время обеда, и Рязанцев отправил меня в камеру, а вечером меня опять привели к нему.
— Ну, что, Михаил Павлович, все не верите? — спросил он с любезной улыбкой, намекая на утренний разговор о ПОВ.
— Никогда в жизни не поверю, что Дзержинский мог хоть одним поступком, хоть одним словом предать революцию. Так же как не верю в то, что Уншлихт, Медведь и Ольский были связаны с ПОВ. Если бы товарищ Сталин узнал, что вы наговариваете на Дзержинского, а также каким путем вы «выбиваете» показания на всех других товарищей, он приказал бы всех вас расстрелять.
Эх, Михаил Павлович, — снисходительно-иронически покачал головой Рязанцев. — Вы ведь опытный чекист и разведчик. Неужели вы можете поверить, что каждый из нас будет рисковать своей жизнью и творить беззакония? Обо всем, что мы делаем, Центральный Комитет прекрасно знает. Мы имеет санкции лично от товарища Сталина.
Я недоверчиво покачал головой.
Тогда Рязанцев, подбежав к своему несгораемому сейфу, открыл дверцу и взял оттуда тоненькую красную книжечку. Затем, подойдя ко мне вплотную, он открыл эту книжечку (размером с пол-листа писчей бумаги) и положил рядом со мною на стол, чтобы я мог прочитать текст.
Насколько я помню, там было написано следующее:
«Всем секретарям крайкомов, обкомов и нацкомпартий. В Центральный Комитет поступили сведения, что в некоторых парторганизациях привлекают к ответственности следственных работников НКВД за применение физических методов при допросах.
ЦК разъясняет: в капиталистических странах арестовываются коммунисты и другие прогрессивные деятели, в отношении которых применяются пытки. Поэтому ЦК санкционирует применение физических методов воздействия в отношении врагов народа и запрещает привлекать к партийной ответственности следственных работников НКВД.
Секретарь ЦК Сталин».
Когда я прочел этот документ, у меня потемнело в глазах. Все надежды на то, что, может быть, Сталин не знает о том, что делается в органах НКВД, рухнули.
И все же я сказал:
— Тут ведь сказано о врагах народа. Товарищ Сталин, видимо, имел в виду шпионов и настоящих врагов народа, а вы бьете всех подряд. Да и вообще для меня непонятно. Ну хорошо, Дзержинскому вы не верите, но ведь и Ленин запрещал такие методы следствия. Он бы никогда в жизни не допустил этого, даже в отношении явных врагов. А мы ведь знаем, что Ленин никогда не был мягкосердечным к врагам. И у него не дрогнула бы рука подписать декрет о расстреле тех или иных явных врагов. Но бить на следствии, ведь так можно черт знает до чего дойти. Вот я написал показания о Нарейко, а откуда вы знаете, что я завтра другому следователю не напишу показания на вас?
— Да кто вам поверит, — усмехнулся Рязанцев. — Разве мы уж такие дураки? Не понимаем, где враг, а где нет?
В другой раз, записывая какие-то очередные уточнения в состряпанные нами «показания», Рязанцев снова повторил, что «Валентин будет очень доволен». А затем убежденно добавил: «Да что Журавлев, тут поднимай выше. Тут дело будет союзного масштаба!»
«Неужели мой план действительно осуществится? — делая вид, что мне совершенно безразличны восторги Рязанцева, думал я. — Неужели есть еще надежда попасть в Москву?»
Я видел, что Рязанцев все время подготавливает меня ко второй очной ставке с Федей Чангули. Потом он прямо попросил, чтобы я помог им уговорить Чангули окончательно подтвердить данные им ранее показания. Причем Рязанцев подчеркнул, что они постараются обработать показания Чангули так, чтобы они сходились с моими.
Рязанцев говорил, что Чангули «жуткая сволочь», что после первой очной ставки, когда он «устроил провокационный шум», он снова подтвердил показания, что он шпион, но на следующий день при военном прокуроре опять от показаний отказался. И сейчас он то подтверждает свои показания, то отказывается.
— Уж вы, Михаил Павлович, пожалуйста, помогите нам положить конец этому делу, — заканчивая разговор, сказал Рязанцев. — На очной ставке будут присутствовать военный и областной прокуроры. Мы же не можем до прашивать его без свидетелей, а то опять откажется.
И вот после этого разговора на следующий день вечером меня привели в кабинет к Блинову, где уже были областной прокурор Куник, военный прокурор Сидоров, Рязанцев и Блинов. Стол для совещаний был сервирован холодным ужином и стаканами чая. По-видимому, до моего прихода начальство уже успело подзакусить.
Когда меня привели и посадили за стол, я обратил внимание, что две тарелки с бутербродами поставлены отдельно от остальных и около них не видно ни вилок, ни ножей. Было похоже, что они предназначались для меня и Чангули.
Через несколько минут в кабинет ввели Чангули. Вид его был страшен. Это был в полном смысле слова живой труп. Я никогда в жизни не видел человека более худого, чем Федя был тогда.
Я встал, сделал шаг навстречу Феде и попросил разрешения поздороваться с ним. Мы обнялись и крепко расцеловались.
Нам предложили сесть, причем эти "опытные" следователи, нарушив всякие правила очных ставок, посадили нас рядом на углу стола: Федю с одной стороны, а меня — с другой, так что ноги под столом были рядом.
— Вы сначала поели бы чего-нибудь, — любезно предложил Блинов.
Чангули был растерян и выглядел, как затравленный волк. Он никак не мог понять, в чем тут дело и почему я держу себя так спокойно.
— Федя, — обратился я к нему, — давай сначала не много закусим. Ведь мы давно с тобою не ели таких вкусных вещей. (На поставленных возле нас тарелках лежали котлеты, бутерброды с семгой, ветчиной и с другими первосортными закусками.)
Зная, что Федя с детства не переносит рыбы ни в каком виде, я забрал с его тарелки бутерброд с семгой, положив ему взамен вторую котлету. Попутно я объяснил присутствующим, что Федя в детстве отравился рыбой и не может есть ничего рыбного.
Когда мы немного подкрепились, я с разрешения начальства затянулся папиросой и стал тихонько пожимать Феде ногу под столом, говоря:
— Ну так вот, Федя. Ты меня знаешь, ты мне веришь. Мы с тобою совершили очень много преступлений против советской власти... Я боролся, пока у меня были силы, но теперь я решил чистосердечно во всем признаться...
Федя с удивлением смотрел на меня, ничего не понимая.
— Я знаю, Федя, сколько времени ты мучаешься и мучаешь своих следователей, — продолжал я. — Я пони маю, что ты все время хотел спасти меня и поэтому отказывался от своих показаний против меня. Конечно, в твоих показаниях есть кое-что лишнее, но в основном ты прав. Нам надо во всем признаться.
Все присутствующие начальники и прокуроры впились в меня глазами, а Федя все еще недоумевал.
— Ведь ты уже несколько раз здесь, в Иванове, при знавался, а в Москве — отказывался. Так давай в конце концов закончим это дело и достойно встретим смерть. И не будем отказываться от своих показаний ни здесь, ни в Москве.
Произнося дважды слово «Москва», я особенно сильно нажимал на ногу Феди, и он, видимо, начинал понимать, куда я клоню.
— Присутствующий здесь прокурор Куник при секретаре обкома партии товарище Седине обещал в случае нашего чистосердечного признания походатайствовать, что бы мне и тебе сохранили жизнь. Так давай же, Федя, будем во всем признаваться.
После небольшой паузы, во время которой Федя еще несколько раз испытующе поглядывал на меня, как бы стараясь по глазам угадать мои мысли, он наконец произнес:
— Ну что же, гражданин начальник Раз дядя Миша все рассказал, я не вижу смысла далее запираться...
А затем решительно добавил:
— Все, что говорит Михаил Павлович, я полностью буду подтверждать, так как он врать не может.
Обрадованный Рязанцев с торжествующим выражением на лице тут же начал строчить соответствующий протокол об очной ставке, в котором было сказано, что Шрейдер и Чангули признаются в участии в шпионско-террористической деятельности и что подробные показания каждый даст в отдельности, дополнительно.
Протокол подписали мы с Федей, а затем присутствующие прокуроры Куник, Сидоров и в конце — Рязанцев
и Блинов.
На этом очная ставка закончилась, и я Федю Чангули больше не видал до октября 1940 года. (Кстати сказать, в июле 1939 года, просматривая свое следственное дело, я не обнаружил в нем этого протокола, он бесследно исчез.)
19 или 20 апреля 1939 года в три часа ночи меня повели, как оказалось, на последний в Иванове допрос.
Рязанцев был одет в замечательный новый штатский костюм. Приветливо встретив меня, он, к моему удивлению, вдруг впервые за весь период «следствия» подал мне руку и заискивающим тоном сказал:
— Михаил Павлович, нас и раньше предупреждали, что вы такой человек, который долго не будет признаваться. Но если уж начнет признания, то расскажет все и никогда от своих слов не откажется.
Я взглянул на него, начиная догадываться, в чем дело.
— Скажу вам откровенно, как следователь бывшему следователю, — продолжал Рязанцев. — Есть много б...ей из арестованных бывших чекистов, которые у нас на до просах признаются, а потом, попадая в Москву, от своих показаний отказываются, и нам снова приходится с ними возиться. Надеюсь, — в его голосе прозвучали жалкие, просительные нотки, — что вы не такой...
Затем, сделав выразительную паузу, он торжественно
произнес:
— Получен приказ товарища Берии доставить вас в Москву. Он будет лично допрашивать вас в моем при сутствии.
И снова просительным тоном добавил:
— Думаю, что вы нас не подведете и не будете б...вать. Я напряг все силы, чтобы не показать Рязанцеву свою
радость. Итак, первая намеченная мною цель достигнута. Меня (а также, видимо, и Федю, как моего однодельца) направляют в Москву...
Отлично понимая, что если меня повезут в Москву, к Берии, то Рязанцева туда и на порог не пустят, я с чистой совестью заверил Рязанцева, что в Москве буду говорить только правду и что он может быть абсолютно спокоен.
Рязанцев был тронут моими заверениями.
Вернувшись в камеру и сообщив товарищам, что меня повезут в Москву, я с грустью простился с ними. Ведь в самые тяжелые для меня дни жизни они оказывали мне неоценимую моральную поддержку. Все мы были уверены, что вряд ли когда-нибудь увидимся*1 и что нас, по всей вероятности, ожидает одна и та же страшная судьба. Хотя я, как, наверное, и каждый, вопреки логике все же в глубине души на что-то надеялся.
На следующее утро меня вызвали с вещами и отвели в кабинет начальника тюрьмы. Там Рязанцев в присутствии Москвина и конвоя, который должен был меня сопровождать, вручил мне огромный узел, в котором было 40 пачек папирос, несколько пачек махорки, спички, колбаса, масло, сыр, бублики и всякое другое продовольствие.
_____
*1. Спустя много лет автор узнал, что его бывшие сокамерники по Ивановской тюрьме В. З.Артемьев и завоблоно Севанюк уцелели и были освобождены в 1939 или 1940 году.
— Там, в Москве, ведь не особенно хорошо кормят,— заботливо сказал Рязанцев, — а это будет для вас под креплением (можно было подумать, что в Ивановской тюрьме кормили, как в ресторане).
Начальнику конвоя Рязанцев отдал приказ, чтобы со мною обращались вежливо и обеспечили мне в вагоне спокойный сон, так как в Москве мне предстоит «большая и серьезная работа».
— Между прочим,— сказал на прощание Рязанцев, — я провожу вас до вокзала, а сам выеду следующим поездом, и мы в Москве увидимся.
Меня посадили в «черный ворон» вместе с конвоем из шести человек. Седьмой сел рядом с шофером. Тут же стояла легковая машина, в которую сел Рязанцев.
На вокзале уже был приготовлен арестантский «столыпинский» вагон специально для одного меня. Конвоиры строго выполняли указание Рязанцева и всю дорогу относились ко мне очень внимательно. Трое из них сняли шинели и устроили мне на полке удобную постель: одну шинель подстелили, из другой сделали подушку, а третьей накрыли меня. Но, несмотря на их старания, я всю ночь не мог сомкнуть глаз. Я знал, что, если я в Москве откажусь от выбитых в Иванове показаний, меня снова будут пытать, и я все время обдумывал, каким образом действовать и какими особо вескими доводами убедить моих будущих следователей в моей невиновности.
По прибытии в Москву меня привезли в здание НКВД СССР на Дзержинской площади, в помещение приема арестованных. Дежурный по приему, раскрыв мой узел и увидев огромное количество продуктов и курева, спросил:
— Что это, тебя теща провожала, что ли?
— Да, — уныло пошутил я, — заботливая теща в штанах — начальник следственной части Рязанцев.
Снова Москва. Внутренняя тюрьма
Во внутренней тюрьме НКВД СССР меня поместили в камеру на четырех человек. Кажется, 23 апреля 1939 года меня вызвали на допрос к майору госбезопасности Макарову, которого я видел впервые. Еще в камере от своих новых соседей я наслышался о нем как об исключительно подлом человеке. Его фамилию называли вместе с фамилией прославленного в то время палача Родоса. Ничего хорошего от этой встречи я не ждал.
Приняв меня от конвоиров и не пригласив сесть, Макаров спросил:
— Ну что? Ты в Иванове все рассказал? — И, не ожидая ответа, продолжал: — А теперь подробно расскажешь о своих контрреволюционных связях с Фриновским.
«Вот тебе раз, — подумал я. — Не так давно Фриновский дал следователю Чернову письменную санкцию бить меня, а теперь, оказывается, и сам загремел». Я стал говорить Макарову об этом, но он резко оборвал меня:
— Знаем. Эта санкция была дана для маскировки. Рас сказывай лучше о ваших с ним дружеских связях.
— Гражданин начальник, — заявил я. — Все подписанное мною в Иванове является ложью. Меня там страшно избивали и пытали, и я вынужден был наговорить на себя всякую чушь и выдумать себе вербовщика в лице палача и садиста Нарейко, который хотя и сволочь, но никогда никуда меня не вербовал. Просто я оговорил его, так как он сильнее других избивал меня.
— Ах, так ты провокатор! — в бешенстве крикнул Макаров и с размаху стукнул меня кулаком в лицо.
Я отлично знаю, что меня все равно расстреляют, но предупреждаю, что бить себя я больше не позволю. Если вы или кто-либо другой станете меня снова бить, я буду подтверждать ложные показания, данные в Иванове, а также назову всех тех, кто меня будет избивать, своими соучастниками.
— Ах ты, фашистская сволочь, — заорал Макаров, — значит, ты и меня можешь причислить к своей банде?
— Конечно, — ответил я.
Макаров вскочил с места как ужаленный и снова несколько раз стукнул меня кулаком в лицо, ругаясь нецензурными словами. От ударов у меня потекла из носа кровь; не было платка, чтобы удержать ее, и кровь капала на пол.
— Ну и гад, — ругался Макаров. — Твое счастье, что у нас завтра выходной день. Но мы еще с тобой после выходного поговорим...
Решив прекратить допрос, Макаров вызвал конвой, а затем позвонил кому-то по телефону, по-видимому, большому начальнику, потому что сразу заговорил заискивающим, «дружеским» тоном. Назвав какое-то грузинское имя, Макаров, непроизвольно подражая грузинскому акценту, сказал:
— Ну как, поедем завтра на охоту?
Затем заговорил о том, что из продуктов, в том числе «горячительного», надо захватить с собой.
— Дичи будет много!.. Ну, кончаю говорить, а то у меня тут находится фашистская дичь. Правда, еще не убитая, а только легко раненная.
Повесив трубку и видя, что кровь из носа у меня продолжает капать, Макаров с брезгливой миной подал мне кусок бумаги.
— Утри сопли, а то весь пол в коридоре загадишь. Но я не успел последовать этому совету, в этот момент в кабинет вошли вахтеры, схватили меня за руки, по обыкновению выкрутив их назад, и выхватили бумажку, которую я держал, а кровь из носа продолжала капать во все время следования до камеры.
В последующие дни Макаров несколько раз вызывал меня к себе, но теперь каждый раз во время допросов у него в кабинете сидели 5 — 6 верзил, а на столе демонстративно лежали толстые резиновые палки. Макаров, видимо, решил на всякий случай не оставаться больше со мною наедине, без свидетелей.
Каждый раз после обычного вопроса, подтверждаю ли я свои показания, данные в Иванове, и моего отрицательного ответа по приказу Макарова его молодцы набрасывались на меня и начинали избивать резиновыми палками, причем обычно принимал участие в избиениях и сам Макаров. А я сразу начинал кричать, что подтверждаю свои ивановские показания.
На следующем допросе я снова отказывался от них, меня опять начинали бить, и я снова подтверждал свои липовые показания. Мои попытки рассказать Макарову о том, как мое дело было спровоцировано бывшим начальником УНКВД Ивановской области Журавлевым и продолжено его последователем Блиновым, вызывали лишь взрыв негодования у Макарова. Он резко обрывал меня, не давая договорить, и угрожал стереть в порошок, если я посмею «пачкать грязью» имя кандидата в члены сталинского ЦК Журавлева.
Однажды поздно вечером меня вызвали на очередной допрос. В кабинете, как всегда, уже сидели молодцы с резиновыми палками. Когда меня ввели, Макаров, предложив мне сесть, тут же позвонил куда-то по телефону и сказал:
— Он у меня. Пожалуйста, заходите.
Минут десять Макаров читал какие-то бумаги, а молодцы сидели в выжидательных позах.
Наконец открылась дверь и вошел человек, одетый в штатское пальто, в фетровой шляпе. Он поздоровался с Макаровым, но тот не встал, так же как не встали и молодцы. Поэтому я подумал, что это работник прокуратуры, с которыми в тот период гебисты вообще не считались. По моему адресу он сделал легкий наклон головы и сел напротив меня.
— Вы Шрейдер? — обратился он ко мне. — Вы были заместителем наркома по милиции в Казахстане?
Ответив утвердительно, я, в свою очередь, спросил, с кем имею честь говорить.
— Я начальник Главного управления милиции и зам наркомвнудел, фамилия моя Серов.
— Значит, правда, что Василий Васильевич Чернышев арестован как враг народа? — спросил я.
— Откуда вы это взяли? Василий Васильевич как был, так и остался заместителем народного комиссара. Кто вам сказал такую чепуху?
— Начальник УНКВД Ивановской области Блинов, — ответил я. — Во время ряда допросов он не только называл Василия Васильевича «врагом народа», но и читал мне якобы данные Чернышевым показания о моей принадлежности к его шпионской организации.
При этих словах Серов вопросительно посмотрел на Макарова, а тот недоуменно пожал плечами. Воцарилась неловкая пауза.
— Какое у вас образование? Чем вы интересуетесь из литературы? — неожиданно спросил Серов.
Меня крайне удивил подобный тон разговора, несоответствие и нелепость которого в той обстановке были настолько разительны, что я невольно начал иронизировать.
Пользуясь богатейшей библиотекой Бутырской тюрьмы, в числе других произведений с удовольствием перечитал «Дон Кихота» Сервантеса, — ответил я.
— А чем вас так заинтересовал «Дон Кихот»? — осведомился Серов.
— Потому что я вижу в линии ведения следствия по моему делу некоторую аналогию — в части бессмысленности яростной борьбы с ветряными мельницами.
— Так вы что же, рассматриваете себя, как ветряную мельницу... Иначе говоря, считаете себя совершенно не виновным человеком? — спросил Серов.
— Да нет, что вы. Разве я могу считать себя невиновным, когда меня окружает столько внушительных фигур, вооруженных резиновыми дубинками, под руководством такого «замечательного дирижера», каким является гражданин Макаров. Тут поневоле назовешь себя незаконнорожденным, сыном императора Маньчжоу-Го Пу-И, а не только участником контрреволюционного заговора.
— Не забывайся и не болтай глупостей, — прикрикнул на меня Макаров.
— Мне кажется, Шрейдер, что ваше положение не должно располагать к шуткам, — сказал Серов. — Учтите, что вы еще можете спасти свою жизнь, если чистосердечно признаетесь во всем.
— Я уже признался в стольких «грехах» и столько насочинял всякой несусветной чуши, что трудно выдумать что-нибудь еще, — с грустной иронией ответил я.
— Вот вы, например, очень могли бы помочь мне, новому в органах человеку, — пропуская мимо ушей мое замечание, продолжал Серов, — если бы разоблачили работников Главного управления милиции, участвующих в вашем контрреволюционном заговоре. Ведь поймите, я чувствую, что окружен врагами, и не знаю их. А вашим чистосердечным признанием вы могли бы помочь мне и хоть частично искупить свою вину.
Меня возмутило это циничное вымогательство ложных показаний, исходящее от замнаркома.
— Гражданин начальник, — решительно обратился я к Макарову, — запишите в моих показаниях, что основным участником в контрреволюционной организации, в которой я состоял, был нынешний начальник Главного управления милиции Серов. Прошу наше сегодняшнее свидание считать очной ставкой.
Ошеломленный Серов отшатнулся от меня и побледнел. Затем встал со своего места, ни слова не говоря, кивнул Макарову и вышел из кабинета.
— Ах ты сволочь, б...., провокатор, — задыхаясь от бешенства, заорал Макаров, изрыгая на меня целый поток ругательств.
Но тем не менее, к моему удивлению, меня бить не стали. Макаров тут же вызвал конвоиров и приказал:
— Уберите эту б !
(Забегая вперед, хочу рассказать о моей следующей встрече с Серовым на торжественном вечере в КГБ, кажется, в 1958 году, где Серов, тогда председатель Комитета госбезопасности, сидел в президиуме, а я, как почетный гость, тоже сидел в президиуме, недалеко от него.
В перерыве я не мог отказать себе в удовольствии подойти к нему и напомнить о нашей встрече в кабинете Макарова.
— Что-то я не помню такого случая, — изобразив удивление, сказал Серов. — Вы наверняка путаете. — Но, увидев по выражению моего лица, что я не верю в его забывчивость, он добавил: — Во всяком случае, я очень рад, что вы живы и здоровы. А о прошлом надо постараться забыть.
— Нет, товарищ Серов, такие вещи не забываются. Несмотря на утверждение Серова, что он не помнит о нашей встрече, ровно через минуту он исчез с торжественного заседания.)
После встречи с Серовым я больше Макарова не видел. Несколько дней меня вообще не вызывали, а затем повели к новому следователю — Ефименко. Его звания я не знал, он был в штатском, но думаю, что это был обычный оперуполномоченный в звании лейтенанта. Первыми его словами были:
— Ну, муж принцессы Эфиопии, что ты можешь еще рассказать?
А затем, другим тоном, показывая, что шутка окончена, продолжал:
— Ну, вот, Шрейдер. Высшее начальство НКВД и май ор госбезопасности Макаров поручили твое дело мне. Давай договоримся, что будешь говорить правду, чтобы не вынуждать меня применять соответствующие методы.
Я заявил, что говорю только правду, не признавая за собой никакой вины против партии и родины. А ложные показания на себя я даю только тогда, когда меня принуждают к ним избиениями и пытками, и так же буду поступать и впредь, по возможности прибавляя к «липовым показаниям о шпионаже» и новых вербовщиков. На мое заявление, что мое дело спровоцировано бывшим начальником Ивановского НКВД Журавлевым, Ефименко пригрозил мне, что если я посмею клеветать на кандидата в члены сталинского ЦК, то меня уничтожат.
Должен сказать, что в противоположность всем другим следователям Ефименко с первого же допроса произвел на меня неплохое впечатление. Он никогда не оскорблял меня нецензурной бранью, ни разу не ударил и не приглашал молодцов с дубинками. Я чувствовал, что все его устные угрозы и запугивание — не что иное, как вынужденное исполнение приказов Макарова и других вышестоящих начальников.
В течение нескольких допросов, продолжавшихся ежевечерне, Ефименко продолжал требовать, чтобы я подтвердил показания, данные мною в Иванове, и угрожал, что в противном случае вынужден будет отправить меня в Сухановскую тюрьму, где «несладко». О зверствах и пытках, творимых в Сухановской тюрьме с подследственными, ходили тогда страшные рассказы. Она, пожалуй, считалась еще более кошмарной, чем Лефортовская
Несмотря на все эти угрозы, я интуитивно чувствовал, что Ефименко с самого начала верил в мою невиновность. И я продолжал твердить, что, если меня будут бить, я снова буду подтверждать данные мною ложные показания, но что я всегда был и остаюсь преданным родине и партии коммунистом.
— Какой же ты коммунист, — возразил однажды Ефименко, — если женился на чуждом элементе — дворянке. Неужели не мог выбрать жену из комсомолок или коммунисток?
Я ответил, что моя «дворянка» лучше многих комсомолок и коммунисток.
Через 8—10 дней после моей первой встречи с Ефименко меня неожиданно вызвал из камеры лично начальник тюрьмы Миронов. Это был необычный случай, и поэтому я был уверен, что меня ведут на расстрел. Но, к моему изумлению, меня завели в какую-то комнату, где находился парикмахер, который побрил меня опасной бритвой (что тоже было своего рода чэпэ, так как во всех тюрьмах заключенных обычно брили тупыми машинками) да еще опрыскал одеколоном.
После окончания этой процедуры Миронов, знавший меня ранее, но после ареста при встречах делавший вид, что не знаком, вдруг обратился ко мне по имени и отчеству:
— Михаил Павлович, вот возьми щетку и почисти гимнастерку и брюки.
— Ты ведь меня давно знаешь, Миронов. Скажи, что это? Последний парад в моей жизни? — спросил я.
— Не волнуйся, — спокойно ответил он. — Пойдем к большому начальству.
И вот в сопровождении Миронова и одного вахтера, без обычного заламывания рук за спину, меня повели. То ли идти действительно было далеко, то ли просто для потери ориентировки, но меня без конца водили из коридора в коридор, с лестницы на лестницу, пока наконец мы не вошли в секретариат-приемную, а оттуда в огромный, прекрасно обставленный кабинет, где уже находились Берия, знакомый мне по первому допросу Богдан Кобулов и еще человек шесть, которых я не знал. (Позднее от Ефименко я узнал, что там были Меркулов и Владзимирский. О Меркулове я слышал, как о работнике Груз.ЧК, а затем заведующем одним из отделов ЦК Грузии. Откуда в органах появился Владзимирский — мне совершенно неизвестно.)
За маленьким столиком сидела какая-то девушка, как оказалось, стенографистка.
Берия вежливо предложил мне сесть, а Миронову и сопровождавшему меня конвоиру приказал выйти и ждать в приемной.
Естественно, я был взволнован, поскольку не мог даже представить, для какой цели меня привели сюда.
— Как же это получается? — обращаясь ко мне на «ты», начал Берия. — Значит, тогда, в Лефортове, ты соврал, отрицая свое участие в контрреволюционной троцкистской деятельности?
Я ответил, что не врал, но через несколько дней после того, как был у него, один крупный работник аппарата НКВД избил меня и отправил в Иваново, где меня также страшно избивали будто бы по его, Берии, приказу. Доведенный до отчаяния избиениями, пытками, инсценированными расстрелами и т.п., я вынужден был написать ложные показания, чтобы поскорее быть расстрелянным. Фигурирующего в моем деле вербовщика Нарейко я сознательно оговорил, чтобы избавить от этого палача и садиста не только себя, но и многих других ни в чем не повинных товарищей, над которыми он измывался.
— Так ты что ж, значит, провокатор? — спросил Берия.
— Называйте как хотите, гражданин нарком, — ответил я. — Но я считаю абсолютно справедливым быть провокатором в отношении настоящих провокаторов.
Берия поговорил о чем-то по-грузински с Кобуловым и еще с каким-то грузином, покачал головой и вдруг неожиданно сказал:
— Ну, а теперь расскажи, кто из аппарата НКВД Московской области приезжал в Иваново, допрашивал и из бивал тебя.
Я рассказал о приезде в Иваново Софронова, представившегося мне заместителем начальника следственного отдела центра и приезжавшего по личному распоряжению замнаркомвнудела СССР Журавлева.
Когда я назвал фамилию Журавлева, да еще и с присовокуплением ему должности замнаркомвнудела СССР, которой он никогда не занимал, на лице Берии отразилось явное удовольствие, в первое мгновение не понятное для меня. Берия опять что-то сказал по-грузински, обращаясь к своей свите, а затем, обернувшись к девушке-стенографистке, приказал:
— Пишите все подробно. И что ж, тебя крепко били? — обратился он после этого ко мне.
— Если бы не крепко, то я никаких показаний бы не дал, — ответил я.
— Значит, пытали? — полувопросительно-полуутвердительно уточнил Берия. И, так как я еще не успел ответить, он повернулся к стенографистке и сказал: — Пишите — пытали! — явно подчеркивая последнее слово.
Меня охватило радостное волнение. Неужели Берия решил разоблачить банду палачей в Иванове? Это было слишком невероятно, чтобы я мог сразу в это поверить. Может быть, ему просто для чего-то нужен материал на Журавлева? Не успел я обдумать все это, как Берия, будто бы подслушав мои мысли, предложил мне рассказать все, что я знаю о Журавлеве.
С готовностью, стараясь не упустить ни малейшей из известных мне подробностей, я стал рассказывать, что сам никогда Журавлева не видел, но от однодельца Чангули, встреченного мною в Бутырской камере, слышал, что Журавлев лично много раз пытал его, применяя исключительно садистские, нечеловеческие пытки. Затем рассказал все, что слышал от соседей по камере в Иванове об избиениях и пытках, которые Журавлев применял к Артемьеву, Севанюку, Шульцеву и ряду других товарищей.
В течение нескольких первых минут я все еще никак не мог поверить, действительно ли Берия хочет узнать от меня все, что было, или, может быть, этот допрос является очередной провокацией и за излишнюю откровенность мне потом соответственно влетит. Но постепенно, видя, что меня не только не сдерживают, а явно поощряют рассказывать как можно больше, я стал припоминать все новые и новые факты особенно зверских истязаний, применяемых к подследственным Журавлевым, Волковым, Софроновым, и, конечно, подробно рассказал обо всем, что перенес сам от Рязанцева, Нарейко, Кононова и других.
Несмотря на то, что я не жалел красок, описывая все это, Берия несколько раз прерывал меня, формулируя сказанное мною в более жесткой форме, видимо, специально для стенографистки. Наконец после моего рассказа о том, как Журавлев изобрел пытку под названием «утка», Берия воскликнул:
— Ну и сволочь этот Журавлев! — а затем стал быстро-быстро говорить по-грузински с кем-то из своих приближенных.
Значит, мои предположения правильны, думал я. Берия разворачивает какую-то операцию против Журавлева и его компании. Неужели наконец правда восторжествует и эти палачи понесут заслуженную кару?
А допрос все продолжался и продолжался. Меня спрашивали о все новых и новых подробностях.
Подумав, я решился и заявил Берии, что знаю о существовании шифровки за подписью Сталина, адресованной всем секретарям крайкомов, обкомов и начальникам НКВД, на основании которой меня били.
— Что за чепуха? Откуда ты можешь это знать? — удивился Берия. — Ведь ты же сидишь около года.
Я ответил, что эту телеграмму мне показывал на допросе начальник следственной части Ивановского НКВД Рязанцев.
Берия рассвирепел. Он начал ругаться по-грузински и стал что-то возбужденно и со злобой говорить Кобулову. А затем по-русски спросил про кого-то, взяты ли эти, на что Кобулов, кивнув утвердительно, сказал: «Взяты!» И снова оба они заговорили по-грузински.
Я, конечно, не знал точно, о ком именно шла речь. Никакие фамилии не произносились, но мне было ясно, что палачу и идиоту Рязанцеву дорого обойдется показанная мне — подследственному — совершенно секретная шифрованная правительственная телеграмма.
Допрос у Берии продолжался несколько часов. Все, что я рассказывал, стенографистка записывала, и протокол должен был быть огромным. Но моей подписи никто не потребовал. (Правда, стенограмма не была расшифрована.) Когда допрос закончился, Берия сказал:
— Ну иди, разберемся. Преступников накажем.
Я вышел из кабинета в сопровождении того же вахтера и Миронова, с которым пришел сюда. Всю обратную до-
рогу до камеры я шел как пьяный и не мог понять и полностью осознать, что же произошло и чем все это кончится для меня.
Пусть меня расстреляют, но теперь я, кажется, потащу за собой не только одного садиста Нарейко, но наверняка и палача Рязанцева, а возможно, и главного фальсификатора Журавлева. (В отношении последнего мои надежды, увы, не оправдались.)
Два дня прошли в томительном ожидании и неизвестности, и наконец меня вызвали на допрос к Ефименко.
Его обращение ко мне коренным образом изменилось. Он стал вежливо называть меня по имени и отчеству. От прежних угроз не осталось и следа. Не было больше и разговоров о моей шпионской и правотроцкистской деятельности. Ефименко расспрашивал меня о методах ведения следствия в Иванове Рязанцевым, Софроновым и другими, а также все, что я знал и слышал о Журавлеве. Я с готовностью рассказывал все подробности, но мне все еще было непонятно, чем лично для меня все это кончится.
Во время допроса в кабинет зашел какой-то человек, поздоровался с Ефименко, а тот, кивая в мою сторону, сказал:
— Вот это Шрейдер и есть.
Когда вошедший обернулся ко мне, я узнал в нем бывшего уполномоченного отделения СПО Русинова.
— Я знаю Михаила Павловича, — пожимая мне руку, сказал Русинов. — Наверное, и он меня помнит.
— Товарищ Русинов — член комиссии, выезжавшей в Иваново для расследования преступной деятельности Журавлева, Рязанцева и других, — пояснил мне Ефименко.
— Привет вам от Феодосия Ивановича, — добавил Русинов. — Я веду его дело. Он тоже в Москве и чувствует себя хорошо.
Несмотря на допрос у Берии, слушая слова Русинова, я все еще никак не мог поверить в то, что происходящее не очередной фарс. Я сидел обескураженный и настороженный, ожидая в любой момент, что все опять изменится и меня снова начнут молотить и называть шпионом.
— Поверьте, Михаил Павлович, — видимо, поняв мое состояние, сказал Русинов, — что никакого подвоха здесь нет, и не смотрите так недоверчиво. Лучше давайте самые подробные показания товарищу Ефименко о всех зверствах бандитов и садистов из ивановского УНКВД, и в первую очередь о Журавлеве, Рязанцеве и Нарейко.
— Как же мне понимать такую перемену? — спросил я. — Ведь не так давно меня собирались стереть в порошок, если я стану компрометировать кандидата в члены ЦК Журавлева.
Тщательным расследованием, произведенным спец комиссией в Иванове, — разъяснил мне Русинов, — установлено, что Журавлев специально из карьеристских целей сфальсифицировал ряд дел, в том числе и ваше. Мы установили вашу невиновность, а также невиновность Чан гули и ряда других товарищей. Некоторые из них уже освобождены. Поэтому смело рассказывайте о том, как вас и других вынуждали давать ложные показания.
Но ведь я уже давал эти показания на допросе у гражданина наркома, — сказал я. — Хотя мне почему-то не дали на подпись застенографированный тогда протокол.
По-видимому, наркому понадобились ваши показания для представления в высшие органы. Теперь же товарищ Ефименко должен оформить допрос по всем правилам, и тогда вам дадут подписать все ваши показания,— разъяснил Русинов.
А затем, выходя из кабинета, сказал:
— Ну, до свидания, товарищи!
Так как в кабинете, кроме Ефименко и меня, больше никого не было, то, естественно, слово «товарищи» относилось и ко мне. Русинов, конечно, не придал своим словам никакого значения, но для меня это был первый случай после 11 месяцев заключения, когда кто-то назвал меня, хотя бы в числе других, товарищем. Я на всю жизнь запомнил этот момент и эти слова.
Два или три дня Ефименко допрашивал меня, подробно излагая с моих слов весь ход следствия по моему делу не только в Иванове, но и в Москве (до отправления в Иваново). Он добросовестно записывал в протоколах допроса мои отказы от всех данных мною ранее, под пытками, показаний.
Однажды, вызвав меня к себе, Ефименко распорядился подать к нему в кабинет два стакана чаю с пирожными, для меня и для себя, а затем позвонил куда-то по телефону и сказал:
— Ну, и приведите его.
Минут через пять дверь отворилась, и конвоиры ввели в кабинет Рязанцева.
Несмотря на резко изменившуюся ситуацию, в первое мгновение я едва удержался от непроизвольного желания встать и инстинктивно отшатнулся, боясь, что Рязанцев сейчас снова начнет меня избивать. Однако, приглядевшись, я увидел, что это уже был совершенно другой человек. Лицо Рязанцева было в синяках и кровоподтеках, видимо, ему уже крепко досталось.
— Ну как, Михаил Павлович? Узнаете своего «друга»? — с иронией спросил меня Ефименко, бросив в сторону Рязанцева краткое: — Садитесь!
Рязанцев, бледный как полотно, осторожно сел на стул. Он производил впечатление человека, еле живого от страха.
— Надеюсь, Рязанцев, вы узнали «шпиона и террориста» Шрейдера? Что скажете?
— Гражданин начальник, — тихо и смиренно произнес Рязанцев, — я уже все рассказал.
— Нет, мне хотелось бы, чтобы вы повторили все это при Шрейдере. Расскажите, как Журавлев обещал вам за дело Шрейдера орден Ленина. Как вы его пытали, как получали особые пособия за допросы Шрейдера и как, в свою очередь, давали пособия своим подчиненным Цирулеву, Кононову и другим — по сто рублей за каждый допрос Шнейдера.
Рязанцев покорно повторял все то, что перечислил Ефименко, а затем начал рассказывать ряд подробностей о деятельности Журавлева, Блинова, Софронова и других в Иванове и до Иванова. Кроме того, из нечленораздельного бормотания Рязанцева я узнал и многие неизвестные мне подробности, касающиеся деятельности Журавлева, Софронова и других. (Кое-что я знал ранее из других источников, кое-что, в частности, об Акулинушкине и Постышеве, узнал позднее, но пишу сейчас все подряд.)
Карьера Журавлева началась в Красноярске, когда он, будучи начальником СПО, в начале ежовской эпопеи успешно спровоцировал дело на первого секретаря обкома Акулинушкина. Когда началось избиение старых чекистских кадров, Журавлев был назначен начальником УНКВД Куйбышевской области и принимал активное участие в провоцировании дела на П.П.Постышева, который тогда перед арестом недолгое время был секретарем Куйбышевского обкома партии.
Журавлев уничтожил не одну сотню, а возможно, и тысячу коммунистов и беспартийных в Куйбышеве и был направлен в Иваново. По приезде в Иваново, как я уже упоминал ранее, Журавлев начал вылавливать «врагов народа», оставленных на свободе по «недосмотру» Радзивиловского. По-видимому, узнав от бывших подчиненных Юревича или Викторова, работников Ивановского УНКВД, что при Радзивиловском на меня был какой-то материал, которому тот не дал хода, Журавлев в карьеристских целях решил создать громкое дело — «новый параллельный правотроцкистский центр» из старых работников НКВД. Считая меня подходящей фигурой, достойной возглавить этот центр, Журавлев в первую очередь арестовал моих самых близких товарищей: Клебанского, Чангули, а также моих подчиненных: Дунаева, а позднее Кондакова, выбил из них ложные показания на меня, кроме того, собрал на меня клеветнические показания от трясущегося за свое «кресло», занятое им после меня, Телейкова, от бывшего начальника Ярославского областного управления милиции Калабухова, а также от ряда взяточников, пьяниц, уволенных мною в свое время и в благодарность за клевету на меня восстановленных Журавлевым на работе в милиции.
В результате у Журавлева накопилось, как было уже упомянуто, 18 показаний о моей шпионской и правотроцкистской деятельности. Во всех этих провокациях активное участие принимал бывший фельдъегерь Юрьев-Польского райотдела НКВД, ничтожнейшая личность Софронов. Правой рукой Журавлева в этот период были ранее работавший в Челябинске бывший колчаковец Рязанцев и начальник секретариата Маштафаров. К ним примыкали работники Ивановского УНКВД — энтузиасты кровавых дел: Нарейко — бывший при мне начальником одного из отделений особого отдела; Волков — при мне за 4 года совершивший «карьеру» в Иванове от уполномоченного до помощника начальника отделения СПО-6, а при Журавлеве сразу ставший начальником СПО; а также ряд бывших фельдъегерей и рядовых работников, выдвинувшихся при Журавлеве, таких, как Кононов, Цирулев, братья Павленко и другие.
Будучи отъявленным карьеристом и чувствуя, что вокруг Ежова сгущаются тучи, Журавлев в «подходящий момент» написал на имя Сталина письмо, в котором разоблачал Ежова как человека, покрывающего врагов народа и оставляющего многих врагов на свободе.
Этот донос Сталин использовал в письме ЦК ко всем секретарям обкомов, крайкомов и национальных компартий. В письме было сказано, что в ЦК ВКП(б) обратился член партии, начальник УНКВД Ивановской области Журавлев, который сообщил важные факты, вскрывшие недостойное поведение Ежова, отрыв его от партии и т.п. После этого письма Журавлев был немедленно повышен в должности и назначен начальником УНКВД Московской области, а на XVIII съезде партии был избран кандидатом в члены ЦК.
Переехав в Москву, Журавлев захватил с собою Софронова, назначив его начальником следственной части УНКВД Московской области.
Взамен Журавлева начальником Ивановского УНКВД был назначен выдвиженец Ежова, в прошлом рядовой работник НКВД Челябинска, который продвигался «по стопам» Журавлева и перед назначением в Иваново был после Журавлева начальником УНКВД Куйбышевской области — Блинов. Находясь в Москве, Журавлев продолжал ревностно следить за работой аппарата УНКВД Ивановской области: уезжая, он оставил там огромное «наследство» (т.е. большое количество арестованных по спровоцированным под его руководством делам) и опасался, что его преемник Блинов не сумеет закончить все эти дела и «спрятать концы в воду». Поэтому он неоднократно присылал в Иваново Софронова, который, как я уже писал, принимал участие в следствии по ряду дел, в том числе и моем.
Сопоставляя ряд фактов, я начал смутно догадываться о причинах, заставивших Берию собирать материалы на Журавлева. Один карьерист, видимо, побаивался, что другой, посмевший замахнуться на «сталинского наркома Ежова», в следующий «удачный момент» сможет замахнуться и на него — Берию.
Кроме того, в этот период Берия, добиваясь популярности, решил несколько ослабить фабрикацию «врагов народа», а также смягчить режим в тюрьмах и лагерях. Поэтому случай выезда спецкомиссии в Иваново по расследованию так называемых «перегибов ежовщины» был не единичным. Мне известно, что такая же комиссия выезжала в Калинин, Тулу и другие города.
Но возвращаюсь к нашему свиданию с Рязанцевым в кабинете Ефименко. На вопрос Ефименко, считает ли Рязанцев меня шпионом и террористом, а также врагом народа, Рязанцев чуть ли не с испугом ответил:
Что вы, наоборот. Я считал, да и все мы знали, что Шрейдер — честный большевик, но Журавлев убеждал нас в том, что он шпион, и требовал любыми средствами добиться от него показаний. Кроме того, сам Шрейдер так нас запутал, что мы уже не могли разобраться, где правда и где ложь.
Ну, и вы надеялись получить орден Ленина за го лову Шрейдера и Чангули? — спросил Ефименко.
Да. Журавлев уверял, что нарком уже представил нас к высшим правительственным наградам.
Затем после небольшой паузы Рязанцев добавил с тяжелым вздохом:
— Вообще Шрейдер и Чангули оказались более опытными следователями, чем мы.
(Позднее я узнал, что Блинов, когда в Иваново приехала специальная комиссия по расследованию моего и Чангули дела, почувствовав, что пахнет «жареным», сделал ловкий маневр и, не дожидаясь результатов расследования и выводов комиссии, приехал в Москву и стал «капать» на своих подчиненных — Рязанцева и других, — которые будто бы не критично и несерьезно подходили к показаниям Шрейдера, недопустимо зверски били его, вследствие чего Шрейдер наговорил на себя кучу всяких нелепостей и несуразностей. Этим ловким маневром Блинов не только спас себя от возможных наказаний по ивановским делам, но даже был повышен в должности и назначен начальником СПО центра, а позднее стал замминистра госбезопасности.)
На следующем допросе я спросил у Ефименко о судьбе моей семьи. Он успокоил меня, сказав, что жена и дети живут в моей старой московской квартире в Большом Кисельном переулке и, наверное, здоровы, а затем спросил:
А вы помните номер телефона своей квартиры?
Конечно, помню: один — десять — пятнадцать, — ответил я.
— Хотите, я вас сейчас соединю с женой Только скажите ей, что вы здоровы и все будет хорошо, а больше ничего не рассказывайте
И он тут же позвонил по телефону и попросил к телефону мою жену.
Трубку взяла мать жены — Маргарита Михайловна Элланская, которая вместе со своим мужем проживала в моей квартире с апреля 1935 года, после переезда жены ко мне в Иваново. Маргарита Михаиловна ответила, что жены нет дома, она на работе, в Наркомфине. Ефименко назвал себя, сказал, что он ведет следствие по моему делу, оставил номер своего телефона и попросил, чтобы жена по возвращении с работы позвонила ему.
В тот же день, 16 мая 1939 года, жена связалась по телефону с Ефименко, пришла к нему на прием и принесла с его разрешения небольшую посылочку для меня — с папиросами, носками, платками и шоколадом.
(Много лет спустя от жены я узнал подробности ее свидания с Ефименко. Когда она вошла к нему в кабинет, он предложил ей сесть и сказал, что пять минут назад на том же стуле сидел я. Жена выразила сожаление, что не имеет возможности увидеть меня, и поинтересовалась моим здоровьем. Ефименко сказал ей, что я сейчас чувствую себя неплохо и что он надеется, что для меня все закончится хорошо. Мне же в те дни Ефименко ни разу не намекал на возможность благополучного окончания следствия, т.е. о моем освобождении.)
Ефименко передал жене записку от меня, которая до сих пор хранится у нас дома как реликвия: «Ириночка. Я здоров, береги, дорогая, детей, воспитывай их хорошо. Желаю всем вам здоровья и жить счастливо. Обо мне не думайте и не волнуйтесь. Крепко всех вас целую. Миша. 13/V-39 г.».
На следующий раз, когда Ефименко вызвал меня к себе, он сказал, что приносит свои извинения за то, что ранее считал мой брак с дворянкой недопустимым для коммуниста. Теперь же он сам убедился, что моя жена чудесный человек.
В моей семье наступил праздник До звонка и вызова к Ефименко жена нигде ничего не могла узнать обо мне, несмотря на то, что ежемесячно в дни, когда давались справки об арестованных, чьи фамилии начинались на последние буквы алфавита, она и мать объезжали все московские тюрьмы (Бутырскую, Лефортовскую, Таганскую и др.), а также ежемесячно наводили справки во внутренней тюрьме на Кузнецком мосту, дом 2, где можно было встретить многих жен и матерей арестованных. Там моя жена в ноябре 1938 года встретила жен арестованных Радзивиловского, Юревича, Невского и многих других. Потеряв надежду разыскать меня в Москве, мать жены — Маргарита Михайловна ездила в сентябре 1938 года в Иваново, где ей также дали справку, что меня нет. Правда, я в то время действительно находился в Москве. Но до сих пор не могу понять, почему моим близким упорно не давали справок о моем нахождении во внутренней тюрьме и в Бутырках.
Очевидно, кто-то распорядился никаких справок обо мне не давать, и мои близкие до 16 мая 1939 года, т.е. в течение 11 месяцев, не могли меня разыскать.
Теперь же, после вызова жены к моему следователю Ефименко, мне, как и всем арестованным, каждый месяц разрешалось передавать 50 рублей, и, кроме того, после слов Ефименко, что он «надеется, что для меня все закончится хорошо», жена могла рассчитывать на мое скорое освобождение.
Для меня сам факт вызова жены к следователю, посылочка от нее и устное сообщение, что все мои близкие и малыши здоровы, были праздником. И у меня начала теплиться надежда на то, что, может быть, я останусь жив. Однако толком я ничего не знал, больше на допросы меня не вызывали. Прошло более двух месяцев томительного ожидания. И наконец 25 июля меня снова вызвали к Ефименко.
— Садитесь, Михаил Павлович, — сказал он, указывая на стул и кладя передо мною на стол какую-то бумагу.— Распишитесь, что читали это постановление.
В постановлении говорилось, что мое дело было спровоцировано, что я ни в чем не виновен и поэтому дело прекращается. Внизу стояли подписи: Ефименко, Кобулова и главного военного прокурора диввоенюриста Гаврилова. Сверху стояло: «Утверждаю. Берия».
Читая этот текст, я не сразу понял смысл прочитанного — все поплыло у меня перед глазами. Я с трудом взял в руки ручку, но не смог подписаться... и очнулся уже на диване, увидев около себя человека в белом халате со шприцем в руках. По-видимому, у меня был сильный и продолжительный обморок. Придя в себя, я долго не мог успокоиться от охватившего меня волнения
Ефименко поздравлял меня с благополучным завершением дела, успокаивал, говорил, что теперь все мои мытарства закончены и, наверное, я скоро буду освобожден. Меня отправят на курорт, подлечат, и я снова буду работать. Он говорил мне еще много других хороших и теплых слов, а затем отправил меня обратно в камеру.
Не помню уже, в тот же день или на следующий Ефименко снова вызвал меня. Он осведомился, как я себя чувствую, и посадил меня за стол, положив передо мною два объемистых тома.
— Михаил Павлович, поскольку ваше дело закончено, в порядке 206-й статьи УПК ознакомьтесь с материалами следствия. (Возможно, номер статьи я запомнил неверно.)
Я был все еще ужасно взволнован, нервы до крайности напряжены, и, несмотря на то, что все, казалось бы, заканчивается хорошо, я некоторое время не мог взять себя в руки и спокойно читать документы.
Первое, что меня поразило, было то, что санкция прокурора на мой арест была дана в Москве в июле 1939 г., то есть через год и месяц после моего ареста в Алма-Ате.
Затем я начал перелистывать лист за листом, многие из которых раскрывали передо мною трагические судьбы сослуживцев и товарищей, а некоторые наглядно демонстрировали шкурничество ряда трусов и подлецов.
В деле была справка о том, что Хорхорин отказывается от ранее данных им показаний, вынужденных пытками и избиениями, о моей якобы шпионской и террористической деятельности. В конце справки было сказано, что Хорхорин умер в тюрьме от скоротечной чахотки. (Хорхорин был совершенно здоровым человеком, и для меня, равно как и для всех знавших его перед арестом, было ясно, что его попросту убили во время следствия, ведь кровотечение из отбитых легких тогдашним ежовским врачам совершенно естественно было признать чахоткой.)
В следственном деле были справки об отказе от показаний на меня, как вынужденных избиениями и пытками: Чангули, Клебанского, Кондакова, Дунаева и других.
Как это ни покажется странным, но я заплакал от обиды, читая гнусные показания выгнанного мною из милиции за пьянство, взяточничество и разложение некоего Козлова. В связи с его молодостью я пожалел отдавать его под суд — ограничился 15 сутками ареста и увольнением из органов. Как я уже упоминал, начальник УНКВД Журавлев, собираясь фабриковать на меня дело, разыскал всех выгнанных мною пьяниц и взяточников, восстановил их на работе, уговорив написать на меня всяческую клевету. И вот Козлов в своем заявлении написал, что я вообще постоянно избивал своих подчиненных.
Эта клевета показалась мне гораздо обиднее всех лживых обвинений в шпионаже, правотроцкизме, терроре и прочее.
Но были в моем деле и отрадные страницы.
Опуская описание подлости, хочу сказать несколько теплых слов по адресу бессменного водителя моей машины в Иванове, замечательного парня, в прошлом пограничника — Сергея Степановича Курнатова.
Всем товарищам нашего поколения хорошо известна существовавшая в те годы гнусная практика: немедленно после ареста объявлять на партийных собраниях, что такой-то «враг народа» тут же признался в терроре, шпионаже и т.д., независимо от фактического положения дел.
Сейчас не могу вспомнить, от кого и когда я узнал (конечно, не из своего следе гвенного дела, а скорее из чьих-то рассказов), что после моего ареста, когда я еще никаких показании не давал, меня на партийном собрании Главного управления милиции в Москве объявили сознавшимся немецким шпионом и террористом. В печатных органах ЦК Казахстана и в газете «Рабочий край» в Иванове было напечатано, что «в органы пробрался матерый шпион и террорист Шрейдер, который ныне разоблачен».
На собрании работников НКВД и милиции в Иванове так же было объявлено, что я не только сознался в шпионаже, но уже расстрелян.
И вот мой бывший шофер Сергей Курнатов — единственный из присутствующих на этом собрании моих многочисленных подчиненных и сослуживцев ~ встал и заявил:
— С Михаилом Павловичем я работал бок о бок четыре года и никогда не замечал чего-либо, порочащего его как
коммуниста. Он горел на работе, выезжал со мною вместе на самые опасные операции, и я не верю, что он враг народа.
На Курнатова, конечно, сразу же набросились с критикой, его тут же сняли с работы, связанной с перевозкой начальства, и посадили на грузовик (на низкооплачиваемую работу), да и то, видимо, только в связи с дефицитностью профессии шофера (а Курнатов был шофером 1-го класса).
Позднее от жены я узнал, что Курнатов, приехав за чем-то в Москву, заходил к жене на квартиру и принес моим малышам какие-то сладости и подарки, купленные на деньги, выделенные из своих скромных заработков.
Много лет я просил немногочисленных товарищей, писавших мне из Иванова, навести справки и узнать адрес Курнатова, но только осенью 1973 года наконец получил письмо от самого Курнатова, который, как оказалось, живет и пока еще работает шофером в Иванове и имеет уже внуков.
Я написал ему большое письмо, в котором сообщал, что считаю его своим самым верным другом. Приглашал к нам в Москву. Правда, пока он приехать не собрался. Теперь мы систематически с ним переписываемся.
Из дела я узнал, кем и при каких обстоятельствах была начата провокация и фальсификация материалов против меня, затеянная еще подчиненными Радзивиловского.
На одном из доносов на меня, который был в деле, Викторов написал заключение не в мою пользу и передал Радзивиловскому. Последний же наложил на нем резолюцию — не то «Чепуха!», не то «Ерунда!» — и не дал ход делу. Итак, выходит, что я обязан жизнью Радзивиловскому, потому что, если бы меня арестовали тогда, в конце 1937 года, вряд ли я остался бы в живых. Чем же можно объяснить такое отношение к моей персоне со стороны Радзивиловского? Возможно, тут сыграли роль старое знакомство и полтора года совместной жизни в одной квартире в Варсонофьевском переулке. Очень любя детей, я постоянно возился с маленьким сынишкой Радзивиловских, Виктором, а жена Радзивиловского, Софья Борисовна, тепло и по-дружески относилась ко мне. Радзивиловский же с большим уважением относился к жене и побаивался ее резкой и справедливой критики.
Еще более удивило меня при дальнейшем ознакомлении с моим следственным делом то обстоятельство, что Радзивиловский, арестованный на 5 месяцев позднее меня, оговорив себя и всех своих ивановских помощников (Саламатина, Юревича, Викторова, Ряднова, а также своих бывших начальников Агранова, Реденса и, насколько память мне не изменяет, даже самого Ежова — Радзивиловский дал показания, что Агранов завербовал его в шпионскую организацию в пользу какой-то иностранной державы, а потом перевербовал в другую шпионскую организацию сам Ежов), на вопрос следователя о моем участии в его антисоветской организации написал, что «Шрейдер не знал о существовании нашей контрреволюционной организации, а если бы узнал, то, как коммунист, фанатично преданный партии, и человек с очень вспыльчивым характером, всех нас бы перестрелял».
В каком-то другом месте в протоколе допроса Радзивиловского значилось, что на вопрос, не состоял ли Шрейдер в возглавляемой им правотроцкистской организации, к которой он причислял всех своих «помощников», он почему-то в отношении меня написал хвалебный отзыв, отрицая всякую возможность моего участия в антисоветской деятельности. А ведь он еще до своего ареста знал, что я в Алма-Ате уже арестован и, следовательно, моя судьба почти предрешена. И все же старался меня выгородить. Почему он это сделал — навсегда останется непонятным не только для меня, но и для многих, кто знал нас обоих.
Когда я закончил знакомиться со своим следственным делом, Ефименко, распростившись со мною, выразил надежду на мое скорое освобождение и отправил обратно в камеру.
К сожалению, это была моя последняя встреча с Ефименко.
Опять Бутырка
Вскоре меня перевели в Бутырскую тюрьму и неожиданно поместили не в общую камеру, а в одиночку (вернее, в карцер), находящуюся под лестницей, под какой-то башней (но не Пугачевской). В этой камере-карцере, в одиночестве, я «отпраздновал» День советской авиации — 18 августа 1939 года.
В середине сентября меня перевели в одиночную камеру спецкорпуса, где, как я знал еще ранее, содержались особо опасные государственные преступники. Здесь помещение было несколько лучше, но, когда начались заморозки, а затем и морозы, все стены и маленькое зарешеченное окошечко обледенели и холод стал нестерпимым.
Я ежедневно требовал перевода в нормальное помещение и продолжал доказывать свою невиновность.
Наконец начальник тюрьмы перевел меня в одну из камер знаменитой Пугачевской башни, которая показалась мне раем. Здесь было чисто и тепло. Камера была рассчитана на трех человек, хотя вначале я был в ней один.
В этот период я начал усиленно читать. Прочитал всего Бальзака, Стендаля, Гюго, Достоевского, Толстого, Тургенева и много других книг замечательных писателей.
К великому сожалению, мне пришлось побыть в этой относительно хорошей камере не более двух-трех недель: меня водворили в камеру спецкорпуса с двумя койками. В этой камере я провел в одиночестве 6 — 7 месяцев, до июля 1940 года.
Находясь полгода в одиночке, я не знал, что гитлеровцы напали на Польшу, не знал, что началась война СССР с Финляндией, и, когда однажды в камере заменили обычную электрическую лампочку на синюю, я не придал этому особого значения.
Но вдруг ко мне привели человека в полицейской форме. Он ни слова не понимал по-русски, но, кое-как объяснившись знаками и односложными словами, я понял, что передо мной начальник финской жандармерии из города Выборга.
Я потребовал, чтобы жандарма от меня убрали, и часа через 2 — 3 его куда-то перевели.
Второй раз ко мне на 2 — 3 дня посадили испанского коммуниста, также не говорившего ни слова по-русски. Мы все же могли с ним объясниться знаками и отдельными словами на всех языках. Из его жестов и слов я понял только, что он был испанским коммунистом и сражался в Испании против франкистов, а после победы Франко вместе с группой других испанцев эмигрировал в СССР, где проживал в общежитии испанских эмигрантов. Неожиданно несколько человек из них, в том числе и он, были арестованы. Он рассказывал, что его обвиняют в шпионаже и дважды избивали. Надо полагать, что вахтеры, услышав, что мы разговариваем и понимаем друг друга, сообщили кому-то об этом, и испанского товарища от меня увели.
В третий раз за этот период ко мне в камеру посадили молодого чехословацкого летчика-коммуниста. С ним мне было уже легче объясняться, так как в наших языках много общих слов. Летчик рассказал, что, будучи мобилизованным гитлеровской армией, договорился с товарищем, и оба они на самолетах советской марки (какой именно, не помню), не желая служить у фашистов, перелетели на Украину и благополучно приземлились на одном из наших аэродромов. После этого оба были арестованы и доставлены в Москву. В Москве его с товарищем разъединили и обвинили в шпионаже. Чех был страшно подавлен и оскорблен в своих лучших чувствах, особенно оттого, что следователь называл его фашистом и бил. Но и чеха через 2 — 3 дня от меня убрали, и я продолжал сидеть в камере один.
Поздней осенью 1939 года меня наконец вызвали из одиночной камеры спецкорпуса на допрос к неизвестному следователю, который неожиданно для меня вдруг стал кричать, что я «враг народа», и требовать, чтобы я рассказал о своей шпионской деятельности.
Я был ошеломлен и совершенно обескуражен. Я заявил, что мое дело по 58-й статье прекращено, что это утверждено главным военным прокурором диввоенюристом Гавриловым.
— Гаврилов такой же враг, как и ты, — заорал на меня следователь.
— А как же Кобулов? — спросил я. — Ведь он тоже подписал постановление о прекращении моего дела.
Следователь дважды стукнул меня и отправил обратно в камеру. Надо полагать, что, вызывая меня, он не успел даже познакомиться с моим делом, потому что минут через 20 — 30 меня снова вызвали к этому же следователю; он предъявил мне обвинения по статье 193/17-А и начал требовать показаний, что я с целью вредительства осуждал невиновных людей.
Я сидел совершенно убитый и ничего не понимал.
Следователь продолжал орать, что я совершенно развалил в ивановской милиции агентурную работу, слабо боролся с преступностью и чуть ли не насаждал в области бандитизм.
Я категорически отрицал предъявленные мне новые обвинения, приводя, на мой взгляд, неопровержимые доказательства: в приказах ГУРКМ СССР с 1934 по 1938 годы неоднократно отмечалась положительная работа ивановской милиции; Ивановская область ставилась в этих приказах в пример другим; за четыре года моей работы в Ивановской областной милиции я был награжден третьим боевым оружием, знаком «Почетный милиционер» к 20-летию милиции. Указом Президиума Верховного Совета СССР я был награжден орденом Красной Звезды.
Но следователь упорно, как заученный урок, твердил свое, причем говорил общими фразами.
Следует заметить, что в то время я был так счастлив, что с меня сняли обвинения по 58-й статье (измена родине, шпионаж, террор и т.п.), что не особенно старался защищаться от обвинений по статье 193/17-А (халатность, злоупотребление властью и т.п.). Да если бы я и хотел защищаться, то этой возможности у меня не было. Мои неоднократные письма на имя прокурора с требованием вызвать меня для допроса оставались безответными.
Все это время (то есть с того момента, как в июле 1939 года с меня были сняты обвинения по статье 58-й, и до апреля 1940 года) в Иванове, видима, изыскивали провокационный материал об упущениях или нарушениях законов в моей служебной деятельности. Вероятно, нелегко было найти такой материал, если на это понадобилось 10 месяцев. Потому я после предъявления мне обвинения по статье 193/17-А еще четыре или пять месяцев просидел в одиночке. Только в апреле меня наконец вызвали к новому следователю, который предъявил те же обвинения: развал агентурной работы, насаждение в Иванове бандитизма и «вредительский пропуск» через тройку уголовников, подлежащих нарсуду.
Наконец, в конце апреля очередной следователь объявил мне об окончании следствия и о признании меня виновным по статье 193/17-А, то есть злоупотребление властью и преступная халатность (опять-таки не расшифровывая, в чем именно состояла моя вина).
— Правда, материал для твоего обвинения слабоват,— любезно успокоил меня следователь. — Возможно, судить тебя не будут и вернут дело. Но все равно ты, троцкистская сволочь, от нас не уйдешь. Пропустим тебя через особое совещание.
Из этого я понял, что в отношении меня есть указания ни при каких условиях меня на свободу не выпускать.
После этого, последнего допроса я еще около трех месяцев просидел в одиночке, 2 июля меня уведомили о назначении на следующий день суда. Обвинительного заключения мне прочитать не дали и ничего о существе обвинений не сказали.
В ночь перед судом меня измучили всевозможные страшные мысли. Несмотря на то, что меня обвиняли уже не в шпионаже и терроре, а только в якобы допущенном «злоупотреблении властью», невольно думалось, что если где-то в верхах решено меня ни в коем случае не выпускать, то и по этой статье могут приговорить к расстрелу.
Я попросил вахтера вызвать ко мне врача. Пришедшей фельдшерице я объяснил, что меня завтра будут судить, что я никак не могу заснуть и прошу дать мне снотворное. К моему удивлению, она без всяких возражений дала мне таблетку.
Но, тем не менее, вся эта ночь казалась мне каким-то кошмаром.
Суд
В «черном вороне» меня доставили в Черкасский переулок, где находился военный трибунал войск НКВД Московского округа.
Когда меня выводили из машины, с двух сторон остановились прохожие, и я за долгие месяцы тюремного заключения впервые увидел москвичей и московское небо. День был чудесный. Мне почему-то казалось, что моя жена должна обязательно быть в этой толпе: я знал, что она по Черкасскому переулку ходила на работу в Наркомфин. Но ни одного знакомого лица в толпе не было, а меня подталкивали в спину к подъезду со словами: «Быстрее, быстрее!»
До начала заседания суда меня усадили в специальную маленькую комнату для заключенных, напоминающую дежурку для ночного сторожа. Из окна этой комнаты я видел, как в доме напротив, где было какое-то учреждение, работали и ходили люди. Я заметил сидящую за столом машинистку, которой кто-то диктовал, и оба они смеялись. Я думал о том, что происходило со мной, а жизнь шла своим чередом, и работающие в доме напротив люди так же, как и прохожие, шедшие мимо подъезда суда, ничего не ведали, не знали и, наверное, не хотели знать...
Наконец меня повели наверх, в зал судебного заседания. Председательствовал на суде Ждан, известный мне по двум выездным сессиям Верховного суда в Иванове, где при его участии были присуждены к расстрелу председатель Ивановского облисполкома Агеев и вместе с ним целая группа других партийных и советских руководящих работников, обвиненных в правотроцкизме, терроре, шпионаже и прочих несусветных грехах.
Кроме председателя Ждана, секретаря Склокина, двух заседателей (один в форме милиции, другой в форме войск НКВД), конвоя и меня, в зале никого не было. В суде совершалась внесудебная закрытая расправа — не было ни прокуроров, ни адвокатов.
Огласили обвинительный акт, в котором я обвинялся в злоупотреблении властью, в развале работы милиции Ивановской области, в частности, в развале агентурной работы, результатом чего якобы было усиление преступности в области. Далее в акте говорилось, что «враг народа» Шрейдер «в порядке вредительства», являясь председателем внесудебной тройки, проводил через тройку большое количество уголовников, подлежащих нарсуду.
Главный свидетель обвинения оперуполномоченный Е. Соловьев, занимавшийся в период моей работы в Иванове подготовкой дел на так называемую милицейскую тройку, на суд не явился.
(Много лет спустя я узнал от бывшего моего подчиненного по ивановской милиции Корытова, что Соловьев впоследствии был выгнан из милиции, спился и умер от белой горячки.)
Двое других «свидетелей» — работников госбезопасности Иванова — на мой вопрос, знают ли они, в чем меня обвиняют, ответили, что я являюсь «членом правотроцкистской организации, шпионом и террористом».
Председательствующий Ждан вынужден был объяснить им, что это обвинение мне не предъявляется и что меня теперь обвиняют только в служебном преступлении.
Тогда я с разрешения председательствующего задал свидетелям второй вопрос: откуда они знают, что меня якобы обвиняют в столь тяжком преступлении?
«Свидетели», не моргнув глазом, ответили, что накануне отъезда из Иванова их вызвал начальник УНКВД Блинов и проинструктировал, что говорить на суде.
Я обратился к председателю трибунала с просьбой зафиксировать ответы свидетелей в протоколе судебного заседания и заявил, что двое работников УНКВД являются лжесвидетелями, поскольку сами ничего не знают по существу дела, а выполняют инструкцию начальника УНКВД Блинова.
— Не учите нас, — раздраженно бросил Ждан, начинавший нервничать. — Признаете вы себя виновным в том, в чем вас обвиняют? •
Я признать себя виновным отказался. Кроме того, отметил, что ни одного свидетеля, выступившего бы по существу обвинения, не было, ни одного документа, свидетельствующего о моей виновности, мне не предъявили и не зачитали, равно как не показали и не назвали ни одного дела или фамилии невинно или неправильно осужденного. На основании же одних общих фраз, не зная конкретно, в чем меня обвиняют, я ничего не могу сказать. Но, конечно, как и всякий другой руководитель огромного участка работы, не могу поручиться, что за годы работы в Ивановской области, насчитывающей в те годы 97 городов, нигде и никаких отдельных злоупотреблений не было допущено, хотя сам я таких случаев не помню.
(Как выяснилось впоследствии, эти мои слова были занесены в протокол, как мое «признание в злоупотреблении властью и в преступной халатности».)
Должен сказать, что после стольких избиений, пыток и перенесенных моральных издевательств я в тот момент не полностью осознавал серьезность всего происходящего и думал, что не беда, если за столько лет безупречной работы в органах и в милиции в моей деятельности нашли какие-то не очень существенные, как я считал, недочеты.
Вся комедия суда продолжалась не более 20 — 30 минут, не считая моего последнего слова. Я все же попытался объяснить председательствующему и заседателям, что даже если в процессе моей работы в ивановской милиции могли быть отдельные ошибки, то я должен нести за это моральную ответственность, но ни в коем случае не уголовную, тем более что уже в течение двух лет нахожусь в заключении, несколько месяцев меня били, подвергали нечеловеческим пыткам, содержали и продолжают содержать в одиночной камере. И это при том, что никакой конкретной вины я за собой не знаю.
В течение моей сбивчивой речи Ждан несколько раз пытался меня перебить, а когда я начал рассказывать о допросе у Берии и о его обещании разобраться с моим делом, Ждан резко прервал меня и объявил судебное заседание законченным. Судьи удалились для вынесения приговора.
Конвоиры казались мне неплохими ребятами, я по их взглядам интуитивно чувствовал, что их симпатии на моей стороне.
Во время перерыва ко мне подошел секретарь суда майор Склокин (возможно, он жив и помнит эту комедию), стал меня успокаивать, говоря, что по ходу судебного разбирательства моя невиновность полностью доказана, и выразил уверенность, что меня оправдают.
Минут через 8 — 10 появились судьи. Мне был зачитан длинный приговор, явно заранее напечатанный на машинке; за такой короткий срок его не смогли бы составить и напечатать.
Приговор, по сути, почти полностью повторял все формулировки обвинительного акта. Добавилось еще обвинение в бытовом разложении... Приговор был такой длинный, что я не запомнил многочисленных его формулировок, тем более что он не содержал никаких конкретных обвинений. Но последнюю часть я запомнил на всю жизнь: «Приговаривается к лишению свободы и заключению в ИТЛ сроком на 10 лет с последующим поражением в правах сроком на три года». Далее следовали параграфы о лишении звания и правительственных наград.
Ошеломленный, я взглянул на секретаря суда Склокина, только что сулившего мне освобождение. Он опустил глаза и боялся на меня посмотреть.
— Вам понятен приговор? — обратился ко мне председательствующий.
Я ответил отрицательно.
Тогда он повторил последнюю часть приговора, о сроке.
Я сказал, что текст и раньше мне был понятен, но непонятно, как может советский суд меня — коммуниста, в прошлом рабочего — мало того, что безвинно осуждать на 10 лет, но и уподоблять какому-то лишенцу, поражая меня на 3 года в правах после отбытия срока.
— Раз я остался жив, — чуть не в истерике крикнул я, — то верю, что мое дело дойдет до Сталина и он меня освободит. А вы понесете заслуженное наказание за на рушение советских законов.
Тут Ждан приказал удалить меня из зала, и комедия суда на этом была закончена.
Меня опять поместили в каморку в полуподвальном помещении, где я сидел потрясенный, ожидая отправки в тюрьму.
Вдруг дверь отворилась, и на пороге появился Ждан:
— Вы имеете право в течение семидесяти двух часов опротестовать приговор. Я уверен, что Верховный суд его смягчит.
— Зачем вы тогда выносили такой тяжкий и несправедливый приговор? — ничего не понимая, спросил я.
— Вы давно сидите, отстали от жизни и не знаете теперешней политической обстановки, — разъяснил Ждан.
И еще раз сказал:
— Советую написать апелляцию.
— Я действительно не знаю положения в стране, но одно могу вам предсказать, — сказал я на прощание Ждану. — Когда-нибудь вы ответите за все, что делаете сейчас с нами.
Последовать совету Ждана, написать о помиловании или опротестовать приговор я не смог, после всего пережитого я был почти в невменяемом состоянии и не мог собраться с мыслями.
В период пребывания в тюрьме после суда в течение еще трех месяцев я тоже не смог написать апелляцию. Затем около двух месяцев продолжался этап.
Только по прибытии в Севжелдорлаг, в декабре 1940 года, я, наконец, собрался с мыслями и написал подробное заявление — на 25 страницах, которое через получившего освобождение товарища обычной почтой отправил в Москву жене, просил, чтобы она размножила это заявление и направила в ЦК т. Сталину, Верховный Совет т. Калинину, комиссии партконтроля — Шкирятову и в НКВД — Берии.
Жена размножила и разослала мое заявление всем указанным адресатам.
Затем вместе с дядей — М.О. Рейхелем, бывшим руководящим работником Верховного суда, жена ходила на прием к заместителю председателя Верховного суда — Солодовникову или Сологубову, — который, просмотрев заявление, сказал, что приговор в отношении меня формальный, просто меня «надо временно изолировать, поскольку я был связан со многими врагами народа», что в лагере по статье 193/17-А я буду на административной работе, в неплохих условиях и жене надо прекратить бесполезные хлопоты.
После суда меня отвезли в Бутырскую тюрьму и поместили в общую камеру, где находились только что осужденные.
Когда мои новые соседи по камере узнали, что я получил только 10 лет и 3 года поражения в правах, меня начали усиленно поздравлять. А один старик, заслуженный моряк дальнего плавания, сказал мне, видя мой убитый вид:
— Э, браток, напрасно ты падаешь духом. Вот мне дали пятнадцать и пять поражения, и то ничего.
Среди арестованных было несколько человек, ранее приговоренных к расстрелу с последующей заменой 25 годами. Они смотрели на меня как на «мальчишку», которого только что просто высекли.
После этих разговоров в камере я успокоился, приободрился и решил, что я действительно счастливчик, так как в первый период следствия был на волосок от смерти и не имел никаких шансов остаться в живых.
Камера осужденных была переполнена. Так же как и в следственных камерах, спали «валетом» на нарах и под нарами. Но самое страшное оставалось у всех уже позади: никого не били и перспектива расстрела никому не грозила. А с остальным постепенно свыкались, тем более что не тебя одного постигло такое несчастье. Кроме того, почти все осужденные, имеющие родственников в Москве, получали свидание и посылки с теплой одеждой и другими вещами.
Я тоже получил свидание с женой. Нас разделяло две решетки, между которыми ходили конвоиры. Говорить можно было только о состоянии здоровья — своего, детей и родственников.
Это, первое, свидание у нас, по существу, сорвалось. Когда жена вынула из сумочки и показала мне через решетку фотографии детей, ни я, ни она после этого уже говорить не смогли. Жена заплакала, а у меня началась истерика, и свидание было прервано.
Через некоторое время я получил посылку с теплыми вещами, а затем состоялось второе свидание с женой. (Сейчас ни я, ни она не можем вспомнить, кто его выхлопотал, так как обычно вторично свидания никому не разрешались.)
На втором свидании я сумел сообщить жене, что получил десять лет. Она жестами просила показать, целы ли у меня зубы, и я сделал искусственную улыбочку, чтобы показать, что не все зубы выбиты. Из этого я сделал заключение, что наши близкие в курсе всех методов ведения следствия... (Как ни пытались скрывать от народа правду, все же люди знали, что в тюрьмах избивают, истязают и подвергают всяческим издевательствам.)
Почти ежедневно из нашей камеры кого-нибудь забирали на этап, но народу меньше не становилось— приводили все новых и новых осужденных.
Старостой камеры был упомянутый мною капитан дальнего плавания, старейший моряк, арестованный как «шпион» лишь потому, что бывал в заграничных плаваниях. Это был большой оптимист, веселый человек, подсмеивающийся над своими 15 годами, подбадривающий всех заключенных и грустивший о любимой трубке, которую у него отняли.
Неспешно текли дни осени сорокового года. Я подолгу думал о семье, о том, что уже было, и о том, что еще может быть, и каждый день ожидал вызова на этап...