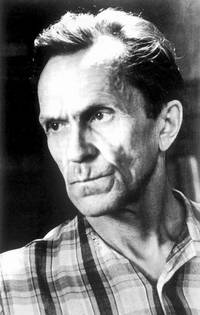Напротив, сутенерство - одна из "заманчивых" деталей профессии, весьма нравящаяся воровской молодежи.
Скоро, скоро нас осудят,
На Первомайский поведут,
Девки штатные увидят,
Передачу принесут,-
поется в тюремной песне "Штатные девки". Это и есть проститутки.
Но бывают случаи, когда чувство, заменяющее любовь, а также чувство самолюбия, чувство жалости к самой себе толкает женщину блатного мира на "незаконные" поступки.
Конечно, с воровки тут спроса больше, чем с проститутки. Воровка, живущая с надзирателем, совершает измену, по мнению блатных начетчиков. Ее могут избить, указывая на ее ошибку, а то и просто прирезать, как "суку".
Проститутке такой поступок не будет вменен в грех.
В этих конфликтах женщины с законом ее мира вопрос решается не всегда одинаково и зависит от личных качеств человека.
Тамара Цулукидзе, двадцатилетняя красавица воровка, бывшая подруга видного тбилисского уркача, сошлась в лагере с начальником культурно-воспитательной части Грачевым - бравым тридцатилетним лейтенантом, красавцем холостяком.
У Грачева была и еще любовница в лагере, полька Лещевская - одна из знаменитых "артисток" лагерного театра. Когда он сошелся с Тамарой, она не требовала бросить Лещевскую. Лещевская же ничего не имела против Тамары. Бравый Грачев жил сразу с двумя "женами", склоняясь к мусульманскому обычаю. Будучи человеком опытным, он старался распределять свое внимание поровну между обеими, и это ему удавалось. Делилась не только любовь, но и ее материальные проявления - каждый съестной подарок готовился Грачевым в двух экземплярах. С помадой, лентами и духами он поступал точно таким же образом - и Лещевская, и Цулукидзе получали в один и тот же день совершенно одинаковые ленты, одинаковые склянки с духами, одинаковые платочки.
Это выглядело весьма трогательно. Притом Грачев был парень видный, чистоплотный. И Лещевская, и Цулукидзе (они жили в одном бараке) были в восторге от тактичности своего общего возлюбленного. Однако подругами они не стали, и когда внезапно Тамара была приглашена держать ответ перед больничными ворами - Лещевская втайне злорадствовала.
Однажды Тамара заболела - лежала в больнице, в женской палате. Ночью двери палаты отворились, и на порог шагнул, гремя костылями, посол уркачей. Блатной мир протягивал к Тамаре свою длинную руку.
Посол напомнил ей законы блатной собственности на женщину и предложил ей явиться в хирургическое отделение и выполнить "волю пославшего".
Здесь были, по словам посла, люди, знавшие того тблисского блатаря, чьей подругой считалась Тамара Цулукидзе. Сейчас его здесь заменяет Сенька Гундосый. В его объятия и должна незамедлительно проследовать Тамара.
Тамара схватила кухонный нож и бросилась на хромого блатаря. Его едва отбили санитары. Угрожая и матерно понося Тамару, посол удалился. Тамара на следующее же утро выписалась из больницы.
Попыток возвратить заблудшую дочь под блатные знамена было сделано немало, и всякий раз безуспешно. Тамару ударили ножом, но рана была пустяковой. Пришел конец срока наказания, и она вышла замуж за какого-то надзирателя - за человека с револьвером, а блатному миру она так и не досталась.
Синеглазая Настя Архарова, курганская машинистка, не была ни воровкой, ни проституткой и не по своей воле навеки связала свою судьбу с воровским миром.
Всю жизнь с юных лет Настю окружало подозрительное уважение, зловещее почтение таких людей, о которых Настя читала в детективных романах. Это уважение, замеченное Настей еще "на воле", существовало и в тюрьме, и в лагере - везде, где появлялись блатари.
Тут не было ничего таинственного - старший брат Насти был видным уральским "скокарем", и Настя с юных лет купалась в лучах его уголовной славы, его удачливой воровской судьбы. Незаметным образом Настя оказалась в кругу блатарей, их интересов и дел и не отказала помочь спрятать украденное. Первый трехмесячный срок укрепил и ожесточил ее, накрепко связал с блатным миром. Пока она была в своем городе, воры, боясь гнева брата, не решались пользоваться Настей как блатной собственностью. По "социальному" положению своему она стояла ближе к воровкам, проституткой же вовсе не была - и в качестве воровки отправилась в обычные дальние путешествия на казенный счет. Здесь уже не было брата, и в первом же городе, куда она попала после первого освобождения, ее сделал своей женой местный вожак-блатарь, попутно заразив ее гонореей. Его вскоре арестовали, и он спел Насте на прощанье воровскую песенку: "Тобой завладеет кореш мой". С "корешем" (то есть товарищем) Настя жила также недолго - того посадили в тюрьму, и на Настю предъявил права очередной владелец. Насте он был отвратителен физически - какой-то вечно слюнявый, больной каким-то лишаем. Она пробовала защититься именем брата - ей было указано, что и брат ее не вправе нарушать великие законы блатного мира. Ей пригрозили ножом, и она прекратила сопротивление.
В больнице Настя покорно являлась на любовные "вызовы", часто сидела в карцере и много плакала - не то слезы у нее были слишком близко, не то слишком страшила ее своя судьба, судьба двадцатидвухлетней девушки.
Востоков, пожилой врач больницы, растроганный Настиной судьбой, похожей, впрочем, на тысячи других таких же судеб, обещал ей помочь устроиться машинисткой в контору, если она изменит свою жизнь. "Это не в моей воле, - писала красивым почерком Настя, отвечая врачу. - Меня не спасти. А если вам хочется сделать мне что-нибудь хорошее, то купите мне чулки капроновые самого маленького размера. Готовая для вас на все Настя Архарова".
Воровка Сима Сосновская была татуирована с ног до головы. Удивительные, переплетающиеся между собой сексуальные сцены самого мудреного содержания весьма затейливыми линиями покрывали все ее тело. Только лицо, шея и руки до локтя были без наколок. Сима эта была известна в больнице своей дерзкой кражей - она сняла золотые часы с руки конвоира, который по дороге решил воспользоваться благосклонностью смазливой Симы. Характер у Симы был гораздо более мирный, чем у Аглаи Демидовой, а то лежать бы конвоиру в кустах до второго пришествия. Она смотрела на это как на забавное приключение и считала, что золотые часы - не слишком дорогая цена за ее любовь. Конвоир же чуть не сошел с ума и до последней минуты требовал вернуть часы и обыскивал Симу дважды без всякого успеха. Больница была недалеко, этап был многочисленный - на скандал в больнице конвоир не решался. Золотые часы остались у Симы. Вскоре часы были пропиты, и след их затерялся.
В моральном кодексе блатаря, как в Коране, декларировано презрение к женщине. Женщина - существо презренное, низшее, достойное побоев, недостойное жалости. Это относится в равной степени ко всем женщинам - любая представительница другого, не блатного мира презирается блатарем. Изнасилование "хором" - не такая редкая вещь на приисках Крайнего Севера. Начальники перевозят своих жен в сопровождении охраны; женщина одна не ходит и не ездит вовсе никуда. Маленькие дети охраняются подобным же образом: растление малолетних девочек - всегдашняя мечта любого блатаря. Эта мечта не всегда остается только мечтой.
В презрении к женщине блатарь воспитывается с самых юных лет. Проститутку-подругу он бьет настолько часто, что та перестает, говорят, чувствовать любовь во всей ее полноте, если почему-либо она не получит очередных побоев. Садистские наклонности воспитываются самой этикой блатного мира.
Никакого товарищеского, дружеского чувства к "бабе" блатарь не должен иметь. Не должен он иметь и жалости к предмету своих подземных увеселений. Никакой справедливости в отношении к женщине своего же мира быть не может - женский вопрос вынесен за ворота этической "зоны" блатарей.
Но есть одно-единственное исключение из этого мрачного правила. Есть одна-единственная женщина, которая не только ограждена от покушений на ее честь, но которая поставлена высоко на пьедестал. Женщина, которая поэтизирована блатным миром, женщина, которая стала предметом лирики блатарей, героиней уголовного фольклора многих поколений.
Эта женщина - мать вора.
Воображению блатаря рисуется злой и враждебный мир, окружающий его со всех сторон. И в этом мире, населенном его врагами, есть только одна светлая фигура, достойная чистой любви, и уважения, и поклонения. Это - мать.
Культ матери при злобном презрении к женщине вообще - вот этическая формула уголовщины в женском вопросе, высказанная с особой тюремной сентиментальностью. О тюремной сентиментальности написано много пустого. В действительности - это сентиментальность убийцы, поливающего грядку с розами кровью своих жертв. Сентиментальность человека, перевязывающего рану какой-нибудь птичке и способного через час эту птичку живую разорвать собственными руками, ибо зрелище смерти живого существа - лучшее зрелище для блатаря.
Надо знать истинное лицо авторов культа матери, культа, овеянного поэтической дымкой.
С той же самой безудержностью и театральностью, которая заставляет блатаря "расписываться" ножом на трупе убитого ренегата, или насиловать женщину публично среди бела дня, на глазах у всех, или растлевать трехлетнюю девочку, или заражать сифилисом мужчину "Зойку", - с той же самой экспрессией блатарь поэтизирует образ матери, обоготворяет ее, делает ее предметом тончайшей тюремной лирики - и обязывает всех выказывать ей всяческое заочное уважение.
На первый взгляд, чувство вора к матери - как бы единственное человеческое, что сохранилось в его уродливых, искаженных чувствах. Блатарь - всегда якобы почтительный сын, всякие грубые разговоры о любой чужой матери пресекаются в блатном мире. Мать - некий высокий идеал - в то же время нечто совершенно реальное, что есть у каждого. Мать, которая все простит, которая всегда пожалеет.
"Чтобы жить могли, работала мамаша. А я тихонько начал воровать. Ты будешь вор, такой, как твой папаша, - твердила мне, роняя слезы, мать".
Так поется в одной из классических песен уголовщины "Судьба".
Понимая, что во всей бурной и короткой жизни вора только мать останется с ним до конца, вор щадит ее в своем цинизме.
Но и это единственное якобы светлое чувство лживо, как все движения души блатаря.
Прославление матери - камуфляж, восхваление ее - средство обмана и лишь в лучшем случае более или менее яркое выражение тюремной сентиментальности.
И в этом возвышенном, казалось бы, чувстве вор лжет с начала и до конца, как в каждом своем суждении. Никто из воров никогда не послал своей матери ни копейки денег, даже по-своему не помог ей, пропивая, прогуливая украденные тысячи рублей.
В этом чувстве к матери нет ничего, кроме притворства и театральной лживости.
Культ матери - это своеобразная дымовая завеса, прикрывающая неприглядный воровской мир.
Культ матери, не перенесенный на жену и на женщину вообще, - фальшь и ложь.
Отношение к женщине - лакмусовая бумажка всякой этики.
Заметим здесь же, что именно культ матери, сосуществующий с циничным презрением к женщине, сделал Есенина еще три десятилетия назад столь популярным автором в уголовном мире. Но об этом - в своем месте.
Воровке или подруге вора, женщине, прямым или косвенным образом вошедшей в преступный мир, запрещаются какие бы то ни было "романы" с фраерами. Изменницу, впрочем, в таких случаях не убивают, не "заделывают начисто". Нож - слишком благородное оружие, чтобы применять его к женщине, - для нее достаточно палки или кочерги.
Совсем другое дело, если речь идет о связи мужчины-вора с вольной женщиной. Это - честь и доблесть, предмет хвастливых рассказов одного и тайной зависти многих. Такие случаи не так уж редки. Однако вокруг них обычно воздвигаются такие горы сказок, что уловить истину очень трудно. Машинистка превращается в прокуроршу, курьерша - в директора предприятия, продавщица - в министра. Небывальщина оттесняет истину куда-то в глубь сцены, в темноту, и разобраться в спектакле немыслимо.
Не подлежит сомнению, что какая-то часть блатарей имеет семьи в своих родных городах, семьи, давно уже покинутые блатными мужьями. Жены их с малыми детьми сражаются с жизнью каждая на свой лад. Бывает, что мужья возвращаются из мест заключения к своим семьям, возвращаются обычно ненадолго. "Дух бродяжий" влечет их к новым странствиям, да и местный уголовный розыск способствует быстрейшему отъезду блатаря. А в семьях остаются дети, для которых отцовская профессия не кажется чем-то ужасным, а вызывает жалость и, более того, - желание пойти по отцовскому пути, как в песне "Судьба":
В ком сила есть с судьбою побороться,
Веди борьбу до самого конца.
Я очень слаб, но мне еще придется
Продолжить путь умершего отца.
Потомственные воры - это и есть кадровое ядро преступного мира, его "вожди" и "идеологи".
От вопросов отцовства, воспитания детей блатарь неизбежно далек - эти вопросы вовсе исключены из блатного талмуда. Будущее дочерей (если они где-нибудь есть) представляется вору совершенно нормальным в карьере проститутки, подруги какого-либо знатного вора. Вообще никакого морального груза (даже в блатарской специфичности) на совести блатаря тут не лежит. То, что сыновья станут ворами, - тоже представляется вору совершенно естественным.
1959
Тюремная пайка
Одна из самых популярных и самых жестоких легенд блатного мира - это легенда о "тюремной пайке".
Наравне со сказкой о "воре-джентльмене", это - рекламная легенда, фасад блатной морали.
Содержание ее в том, что официальный тюремный паек, тюремная пайка в условиях заключения - "священна и неприкосновенна" и ни один вор не имеет права покушаться на этот казенный источник существования. Тот, кто это сделает, - проклят отныне и во веки веков. Безразлично, кто бы он ни был - заслуженный блатарь или последний "штылет батайский", юный фраер.
Тюремную пайку в виде, скажем, хлеба можно без опаски и заботы хранить в тумбочке, если в камере есть тумбочки, и под головой, если тумбочек и полок нет.
Воровать этот хлеб считается постыдным, немыслимым.
Изъятию у фраеров подлежат только передачи - вещевые или продуктовые - все равно, - это в запрещение не входит.
И хотя каждому ясно, что охрана тюремной пайки обеспечивается для заключенного самим режимом тюрьмы, а вовсе не милостью блатарей, все же мало кто сомневается в воровском благородстве.
Ведь администрация, рассуждают эти люди, не может спасти наши передачи от воровских рук. Значит, если бы не блатари...
Действительно, передачи администрация не спасает. Камерная этика требует, чтобы заключенный делился с товарищами своей посылкой. В качестве открытых и грозных претендентов на посылку и выступают блатари, как "товарищи" заключенного. Дальновидные и опытные фраера сразу жертвуют половиной передачи. Никто из воров не интересуется материальным положением арестованного фраера. Для них фраер в тюрьме или на воле - все равно - законная добыча, а его "передачи", его "вещи" - боевой трофей блатных.
Иногда передачи или носильные вещи выпрашиваются, - дескать, отдай, мы тебе пригодимся. И фраер, живущий на воле вдвое беднее вора в остроге, отдает последние крохи, которые собрала ему жена.
Как же! Закон тюремный! Зато его доброе имя сохранено, и сам Сенька Пуп обещал ему свое покровительство и даже дал закурить из той самой пачки папирос, что прислала в посылке жена.
Раздеть, ограбить фраера в тюрьме - первое и веселое дело блатарей. Это делают щенки, резвящаяся молодежь... Те, что постарше, лежат в лучшем углу камеры, у окна, и присматривают за операцией, готовые в любую минуту вмешаться при упорстве фраера.
Конечно, можно поднять крик, вызвать часовых, коменданта, но - что это даст? Чтобы тебя избили ночью? А впереди, в дороге, могут и зарезать. Бог уж с ней, с передачей.
- Зато, - похлопывая по плечу какого-нибудь "черта", говорит ему блатарь, икая от сытости, - зато твоя тюремная пайка цела. Ее, брат, ни-ни... никогда.
Молодому вору иногда непонятно, почему нельзя трогать тюремного хлеба, если владелец его наелся белых домашних булочек от передачи. Владелец булочек тоже этого не понимает. Тому и другому взрослые воры объясняют, что таков закон тюремной жизни.
И боже мой, если какой-нибудь наивный голодный крестьянин, которому в первые дни заключения в тюрьме не хватает еды, попросит у соседа-блатаря отломить кусочек от сохнущей на полке тюремной пайки. Какую пышную лекцию ему прочтет блатарь о святости тюремного пайка...
В тех тюрьмах, где передач мало и мало новых фраеров - понятие "тюремной пайки" ограничивается пайком хлеба, а приварок - супы, каши, винегреты, - как бы он ни был беден по ассортименту, исключается из неприкосновенности. Раздачей пищи всегда стараются руководить блатари. Это мудрое правило дорого стоит остальным обитателям камеры. Кроме пайка хлеба, им наливают юшку от супа, и порции второго блюда становятся почему-то маленькими. Несколько месяцев совместного проживания с хранителем тюремной пайки сказываются самым отрицательным образом на "упитанности" заключенного, выражаясь официальным термином.
Все это еще до лагеря, пока дело идет о режиме следственной тюрьмы.
В исправительно-трудовом лагере, на общих тяжелых работах, вопрос тюремной пайки становится вопросом жизни и смерти.
Здесь нет лишнего куска хлеба, здесь все голодны и на тяжелой работе.
Грабеж тюремного пайка приобретает здесь характер преступления, медленного убийства.
Неработающие воры, наложив свою лапу на кухонных поваров, забирают оттуда большую часть жиров, сахара, чая, мяса, когда оно бывает (вот почему все "простые люди" лагеря предпочитают рыбу мясу; весовая норма здесь одна, а мясо все равно украдут). Кроме воров, повару надо кормить лагерную обслугу, бригадиров, врачей, а то и дежурных на вахте надзирателей. И повар кормит - воры просто угрожают ему убийством, а лагерное начальство из заключенных (на блатном языке они называются "придурки") может в любую минуту придраться и снять повара с работы, и тот отправится в забой, что страшно для любого повара, да и не только повара.
Изъятия из тюремного пайка делаются за счет многочисленной армии рядовых работяг. Эти работяги из "научно обоснованных норм питания" получают лишь малую часть, бедную и жирами, и витаминами. Взрослые люди плачут, получив жидкий суп - вся гуща давно уже отнесена разным Сенечкам да Колечкам.
Для того чтобы навести хоть минимальный порядок, начальство должно обладать не только личной порядочностью, но и нечеловеческой, неусыпной энергией в борьбе с расхитителями питания - в первую очередь с ворами.
Так выглядит тюремная пайка в лагере. Здесь никто уже не думает о рекламных блатных декларациях. Хлеб становится хлебом без всяких условностей и символики. Становится главным средством сохранить жизнь. Беда тому, кто, пересилив себя, оставил кусочек своей пайки на ночь, чтобы среди ночи проснуться и до хруста в ушах ощутить вкус хлеба в своем иссушенном цингой рту.
Этот хлеб у него украдут, попросту вырвут, отнимут - молодые голодные блатари, совершающие еженощные обыски... Выданный хлеб должен быть съеден немедленно - такова практика многих приисков, где много ворья, где эти благородные рыцари голодны, и хотя и не работают, но хотят есть.
Невозможно мгновенно проглотить пятьсот - шестьсот граммов хлеба. К сожалению, устройство человеческого пищеварительного тракта отлично от такого же аппарата у удава или чайки. Пищевод человека слишком узок, кусок хлеба в полукилограммовом весе туда сразу не втолкнешь, тем более с корочкой. Приходится разламывать хлеб, жевать - на это уходит драгоценное время. Из рук такого "работяги" блатари вырывают остатки хлеба, разгибая пальцы, бьют...
На магаданской пересылке был некогда такой порядок выдачи хлеба, когда вся суточная пайка вручалась работяге под охраной четырех автоматчиков, державших на приличном расстоянии от места раздачи хлеба толпу голодных блатарей. Работяга, получив хлеб, тут же его жевал, жевал и в конце концов благополучно проглатывал - случаев, чтобы блатные распарывали работяге живот, чтобы достать этот хлеб, все же не было.
Но было - повсеместно - другое.
За свою работу заключенные получают деньги - не много, несколько десятков рублей (для тех, кто превышает норму), но все же получают. Не выполняющий нормы не получает ничего. На эти десятки рублей работяга может купить в лагерной лавочке - ларьке хлеб, иногда масло - словом, как-то улучшить свое питание. Получают деньги не все бригады, но некоторые получают. На тех приисках, где работают блатари, получка эта бывает лишь фиктивной - блатари отнимают деньги, облагают работяг "налогом". За неуплату в срок - нож в бок. Годами вносятся эти немыслимые "отчисления". Все знают про этот откровенный рэкет. Впрочем, если этого не делают блатари, отчисления собираются в пользу бригадиров, нормировщиков, нарядчиков...
Вот каково подлинное жизненное содержание понятия "тюремной пайки".
1959
"Сучья" война
Дежурного врача вызвали в приемный покой. На свежевымытых, чуть синеватых, выскобленных ножом досках пола корчилось загорелое татуированное тело - раздетый санитарами догола раненый человек. Кровь пачкала пол, и дежурный врач злорадно усмехнулся - отчистить будет трудно; врач радовался всему плохому, что приходилось встретить и видеть. Над раненым склонились два человека в белых халатах: фельдшер приемного покоя, держащий лоток с перевязочным материалом, и лейтенант из спецчасти с бумагой в руке.
Врач сразу понял, что у раненого нет документов и лейтенант спецчасти хочет получить хоть какие-либо сведения о раненом.
Раны были еще свежи, некоторые кровоточили. Ран было много - больше десятка крошечных ран. Человека недавно били маленьким ножом, или гвоздем, или чем-нибудь еще.
Врач вспомнил, как в прошлое его дежурство две недели назад была убита продавщица магазина, убита в своей комнате, задавлена подушкой. Убийца не успел уйти незаметно, поднялся шум, и убийца, обнажив кинжал, выскочил в морозный туман улицы. Пробегая мимо магазина, мимо очереди, убийца воткнул кинжал последнему в очереди в ягодицу - из хулиганства, из черт знает чего...
Но сейчас было что-то другое. Движения раненого становились менее порывистыми, щеки бледнели. Врач понимал, что тут дело в каком-то внутреннем кровотечении - ведь на животе тоже были маленькие, тревожные, не кровоточащие раны. Раны могли быть внутри, в кишечнике, в печени...
Но врач не решался вмешаться в священнодействие службы учета. Нужно было добыть во что бы то ни стало "установочные данные" - фамилию, имя, отчество, статью, срок - получить ответ на вопросы, которые задаются каждому заключенному десять раз на день - на поверках, разводах...
Раненый что-то отвечал, и лейтенант торопливо записывал сообщенное на клочке бумаги. Уже известны были и фамилия, и статья - пятьдесят восемь, пункт четырнадцать... Оставался самый главный вопрос, ответа на который и ждали все - и лейтенант, и фельдшер приемного покоя, и дежурный врач...
- Ты кто? Кто? - встав на колени около раненого, взволнованно взывал лейтенант.
- Кто?
И раненый понял вопрос. Веки его дрогнули, раздвинулись искусанные, запекшиеся губы, и раненый выдохнул протяжно:
- Су-у-ка...
И потерял сознание.
- Сука! - восхищенно крикнул лейтенант, вставая и отряхивая рукой колени.
- Сука! Сука! - радостно повторял фельдшер.
- В седьмую его, в седьмую хирургическую! - засуетился врач. Можно было приступать к перевязке. Седьмая палата была "сучья".
Много лет после того, как кончилась война, в уголовном мире - на дне человеческого моря еще не отшумели подводные кровавые волны. Волны эти были следствием войны - удивительным, непредвиденным следствием. Никто - ни седовласые уголовные юристы, ни ветераны тюремной администрации, ни многоопытные лагерные начальники не могли предвидеть, что война разделит уголовный мир на две враждебных друг другу группы.
Во время войны сидевшие в тюрьмах преступники, в том числе и многочисленные воры - рецидивисты, "урки", были взяты в армию, направлены на фронт, в маршевые роты. Армия Рокоссовского приобрела известность и популярность именно наличием в ней уголовного элемента. Из уркаганов выходили лихие разведчики, смелые партизаны. Природная склонность к риску, решительность и наглость делали из них ценных солдат. На мародерство, на стремление пограбить смотрели сквозь пальцы. Правда, окончательный штурм Берлина не был доверен этим частям. Армия Рокоссовского была нацелена в другое место, а в Тиргартен двинулись кадровые части маршала Конева - полки наиболее чистой пролетарской крови.
Страницы
предыдущая целиком следующая