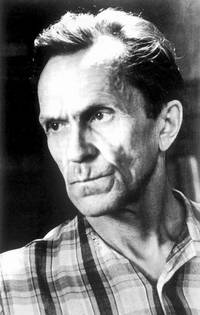- Выходи.
- Сейчас оденусь.
- Нет, выходи так.
Босой и раздетый, я стоял под двумя винтовками конвоя, сколько времени - не знаю.
- Иди назад.
Я вошел в избу. Нервный озноб бил меня до утра. Когда этап пришел в лагерь, я не жаловался. А Зайца я встретил через несколько месяцев - ввалившиеся щеки, пустые глаза, костлявые руки, неуверенные движения. Он умирал от голода и побоев.
Всё это было давно, и лучше не стало.
Тогда думали, что есть две школы следователей: одна считает, что арестованного надо оглушить немедленными допросами, длительными, тягучими угрозами, обвинениями огорошить, сбить с толку.
Вторая держится другой точки зрения.
Надо поместить арестованного в тюрьму и держать по возможности дольше без всякого допроса. Тогда воля его ослабеет, сама тюрьма разложит его, ожидание измучит. За это время можно собрать справки, всякий материал, относящийся к "человековедению". Нет, говорит другая школа. В тюрьме арестованный неизбежно встретит людей, которые укрепят его волю, и подследственный будет сильнее, чем ежели готовить блюдо быстро и горячо.
С половины тридцать седьмого года выяснилось, что в распоряжении следствия есть вещи гораздо более эффективные, чем ребяческие опусы наследников Порфирия Петровича.
Ведь признание обвиняемого - краеугольный камень всей правовой системы сталинского времени.
А его добиться чрезвычайно легко. В силу вступил "метод номер три" - применение пыток. Эта штучка справлялась со всеми - 100% действия. Эффект пенициллина.
Но была еще весна тридцать седьмого года.
Глубоко трагична судьба политической партии эсеров, которая несколько поколений подряд приносила в жертву борьбе с царизмом лучших людей России. Наследники Перовской и Желябова - люди эсеровской партии - по своим человеческим качествам были неизмеримо выше всего, что могла выдумать богатая на подвиги царская действительность в ее глубине, в ее недрах.
Бесспорно, что против эсеров был направлен главный удар самодержавия, и именно их боялся царизм больше всего.
Свержение самодержавия 12 марта 1917 года было днем окончания вековой борьбы русского общества с царизмом, с царем. Эта борьба потребовала огромных сил от всех партий, от всех слоев общества, но прежде всего и больше всего - от социалистов-революционеров.
Недаром Андреев считал лучшим днем своей жизни - 12 марта 1917 года, недаром он праздновал его в 67-й камере Бутырской тюрьмы - двадцатилетие свержения самодержавия.
Кусочки колбасы, кружка тютюнного чая, сахар, масло, разложенное на носовом платке, расстеленном на нарах, - вот и всё наше угощение в этот великий праздник Андреева.
Несмотря на огромнейшие жертвы, история пошла по другому пути, и это было трагедией политической партии.
За трагедией партии шла трагедия людей. Ни в чем не повинных стариков, поседевших на царской каторге, хватали снова, сажали в тюрьму, допрашивали, клеили провокационные "дела", только что не пытали.
Всех бывших эсеров собирали на Нарым, где они и умерли, конечно.
Александр Георгиевич не надеялся на правду. Он уезжал умирать, и единственной просьбой ко мне (если я не умру) было найти его дочь, Нину.
Кормили в Бутырках отлично. "Просто, но убедительно", по терминологии шахматных комментаторов. Хлеб с утра, шестьсот граммов пайки. Впервые здесь каждый узнал, что слово паек в действительности женского рода. Запомнить пришлось на всю жизнь.
Утром выдавался и сахар - двадцать граммов на человека, и папиросы по десятку третьего сорта типа "Ракеты". Папиросы, как объясняло тюремное начальство, - от Красного Креста. Это был единственный признак существования Красного Креста в наших политических тюрьмах - вопрос, который интересовал тогда многих. Где Е. П. Пешкова, где Виновер, ее юрисконсульт на Кузнецком мосту? Позднее мы узнали, что Виновер сам был посажен и умер где-то в лагере, что Красный Крест закрыли, а Пешкова - здравствует. Через много лет она еще "Избранное" Чирикова редактировала.
Приносили чай. Вернее, кипяток и какой-то "малиновый" напиток в пачках, напоминавший чай гражданской войны. Кипяток приносили в огромных ведерных чайниках красной меди, отчищенных кирпичом до блеска, - явно царского времени. Может быть, Дзержинскому или Бауману приходилось пить именно из этого чайника, что принесли в нашу камеру.
Утром выдавалось одно блюдо. Этим блюдом была каша - пшенная, овсяная, перловая, магар, гречневая, картофель или винегрет - с растительным маслом, по полной миске, досыта, словом.
В час был обед, и давали один суп - три дня рыбных, три мясных и один день в неделю - овощной. Мясо выдавалось в вареном виде, отдельно нарезанное, а в рыбные дни - кета, камбала. "Ложка стояла" - таким густым был суп.
Вечером в семь часов давалось всегда то же блюдо, что и утром.
Меню было составлено на неделю и не менялось - по винегрету или перловой "шрапнели" можно было узнать название дня недели не спрашивая, не подсчитывая.
Раз в десять дней камера пользовалась "лавочкой" - разрешались покупки в магазине. Можно было покупать лишь на 13 рублей в "лавочке" каждому - денежные квитанции сдавались в магазин, и через день каждый получал свою квитанцию обратно.
Предполагалось, что у арестантов нет никакой бумаги и карандашей, поэтому за день до "лавочки" коридорный надзиратель приносил грифельную доску и грифель, а вечером следующего дня брал всё обратно и передавал в очередную камеру.
За продуктами в "лавочку" ходили по три-четыре человека, с особым надзирателем. У надзирателя внутри тюремных корпусов нет оружия. Винтовки даются только на караульные вышки.
В "лавочке" бывал всегда и белый хлеб, и масло, и колбаса, и сахар.
Прикупать можно было всё что угодно, но осторожно - тюремная жизнь требует хорошей дисциплины желудка, требует, чтобы человек чуть-чуть недоедал и ни в коем случае не переедал. Прогулка - ежедневная тысяча шагов по камере - по совету Андреева, генерального секретаря Общества политкаторжан.
Чем главным можно определить, очертить первую половину тридцать седьмого года в московской тюрьме, в Бутырской тюрьме? Ведь то, что делалось в Москве, было лишь началом лавинообразного движения - того, что позднее стали называть "цепной реакцией". В Москве писались статьи "Уничтожить врага". В колымском приисковом забое уголовник поднимал железный лом над головой профессора. Что главное?
Растерянность, полное непонимание того, что делается, - у большинства. Одиночки понимали, в чем тут дело, видели истинную роль мастеров сих дел. Но все во что-то верили, думали, что произошла огромная ошибка, совершена какая-то чудовищная провокация. Они еще пребывали в сем блаженном состоянии, но тюрьма понемногу открывала им глаза.
Кто остался со мной на всю жизнь в памяти? Прежде всего и раньше всего - Александр Георгиевич Андреев.
Андрееву было шестьдесят четыре года, когда он - в сотый или в тысячный раз в своей жизни - отворил дверь тюремной камеры. В прошлом - эсер-террорист, крымский эсер, принимавший участие в Севастопольском порту в деле, на котором "его величества рукой начертано" "Скверное дело", знавший Савинкова, Гершуни.
- Я не пошел в пропаганду. Слишком неопределенен, не виден результат. Другое дело террор - раз, и квас.
Андреев рассказывал о первой своей гимназической бомбе, брошенной просто для устрашения на каком-то балу. Рассказывал об обучении террористов. Как никогда не ставят тех же людей, если покушение почему-либо не состоялось. Практика показала, что нервы не могут собраться дважды.
Андреев бежал из ссылки, из тюрьмы, бывал за границей, а в 1910 году был осужден навечно - но 12 марта 1917 года был освобожден. Этот день Александр Георгиевич считал лучшим, величайшим днем своей жизни.
Андреев был правым эсером. После Октябрьской революции был дважды в ссылке в Нарыме, возвратился и был избран генеральным секретарем Общества политкаторжан. На этой должности он и встретил нынешний арест. Встретил спокойно.
- Я говорю следователю: если вы считаете, что я эсер, то должны знать, что я никого назвать не могу. А если вы считаете, что я не эсер, то должны мне верить, что я ни в каких организациях не состою.
Будущее Андреева заботило мало. Ссылку дадут лет пять. Куда-нибудь к Нарыму. И верно - эсеров всех собирали на Дудинке.
Для меня история партии эсеров всегда была полна особого интереса. В этой партии были, бесспорно, собраны - десятилетиями собирались - лучшие люди России по своим человеческим качествам: самые смелые, самые самоотверженные - лучший человеческий материал. Но история пошла по другому пути, и все жертвы - многочисленные, тяжелые, кровавые жертвы наследников "Народной воли" оказались напрасными. Вот рухнул царизм, который эсеры подтачивали, с которым боролись героически, а места в жизни эсерам не нашлось. Эта глубочайшая трагедия нашего русского времени заслуживает уважения, внимания.
Был в камере и другой старый эсер - Жаров или Жиров, сидевший молчаливо. Только один раз он выступил вперед. За что-то камера была лишена "лавочки" - это ударило прежде всего курильщиков. Жаров, у которого скопились "краснокрестные" папиросы, молча вынес их на обеденный стол. Положил и отошел.
Андреев видел многое ясно, четко. Ошибался он в одном. Ему хотелось видеть за массовыми арестами, за террором, за репрессиями живую Россию, встающие на борьбу молодые силы, и он не верил, что враги - выдуманные, что гекатомбы невинных трупов - лишь мостик, залитый кровью, по которому начал свой путь к власти Сталин. Андреев верил в Россию и ошибался. Репрессии, самые тяжелые, были направлены против невинных людей - и в этом была сила Сталина. Любая политическая организация, если бы она существовала и обладала тысячной частью того, что ей приписано, смела бы власть в две недели. Сталин знал это лучше кого-нибудь другого.
А разочарование, обида, ужас были велики. По комнате ходил, переваливаясь, медведеобразный огромный человек со следами оспы на темном лице, с густой шапкой русых волос, в черном полувоенном костюме без пояса. Пальцы его были сцеплены, руки закинуты за голову. Он ходил от параши до решетчатого окна. Вытянув руки, Алексеев вцепился пальцами в оконную решетку и прижался к решетке лицом. Это был Гавриил Алексеев.
- Смотрите, - сказал Андреев, - первый чекист!
Да, Алексеев был чекистом когда-то. Да, формула Андреева была лаконична и верна. Гавриил Алексеев, вцепившийся руками в тюремную решетку, был символом времени. (Потом были символы и пострашнее - вроде кедровского письма, судьбы Постышева, но была ведь весна тридцать седьмого года.)
Алексеев был солдатом-артиллеристом, участником октябрьских боев в Москве, где командовал Николай Муралов, расстрелянный в тридцатых годах. После переворота Алексеев поработал в ЧК у Дзержинского, работа чекиста не пришлась ему по сердцу. Участились припадки эпилепсии - о прошлом стало рассказывать опасно: на занятиях политкружка Алексеева учили, что Муралова и на свете не существовало. Алексеев поступил начальником пожарной команды в Наро-Фоминск и там был внезапно арестован и привезен в Москву.
- О чем тебя спрашивают? О Муралове?
- Нет. О брате.
Оказалось, что брат Алексеева, по фамилии Егоров, был начальником школы ЦИКа - начальником охраны Кремля.
Я высказал предположение об аресте брата. Алексеев рассердился. Увы, следующий допрос показал, что я был прав.
- Мой же товарищ, сослуживец, - говорил экспансивный Арон Коган, - на очной ставке подтвердил всё, что наврал. Подлец! Я думал, что убью его.
Такие случаи часты, увы.
- Вы встретитесь спокойно, - предположил я, - и ты будешь с ним разговаривать.
Так и случилось во время одного из допросов.
- Я ехал с ним вместе в "вороне". И сердца своего не поднял против него, - говорил грустно Арон.
Тюрьма - это великая проба. Много неожиданного открывает она в характере человека хорошего, а больше - плохого.
Если об Алексееве можно было сказать, что он был первым чекистом, то что сказать об Аркадии Дзидзиевском - герое гражданской войны на Украине. В процессах Вышинский упоминал эту фамилию. Дзидзиевский вошел в камеру, большерукий, широкоплечий, большеголовый, седой. Он пришел из одиночки - несколько месяцев он просидел там. В левой его руке было три разноцветных платочка. Он всё время судорожным движением пальцев то разматывал, то встряхивал, то складывал эти платочки.
- Это - мои дети, - сказал, глядя мне прямо в лицо слезящимися светло-голубыми глазами со склеротическими прожилками. - Меня ведь не переведут отсюда, - толстой старческой рукой он ухватил мою руку. - Здесь хорошо, здесь - люди.
- Нет, не переведут. В Бутырках ведь не держат смертников. Вы...
- Я не боюсь смерти. Спроси любого - у нас знают Аркадия. Но все эти бумажные кляузы... Записи... Допросы... Что же это, а?
- Вы кто, дядя? Чем занимались? - подошел скучающий Леня Туманский, паренек лет шестнадцати.
- Чем я занимался? - спросил Дзидзиевский, и толстые пальцы его раскрылись, ловя воздух. - Буржуев бил.
- А сейчас, значит, самого...
- Да вот, как видишь.
- Ничего, дядя, - сказал Лёня, - всё будет хорошо. Всё скоро кончится.
Лёне тюрьма открыла свет. Шестнадцатилетний неграмотный крестьянин Тумского района Московской области был уличен в том же роде деятельности, что и чеховский "злоумышленник": Лёня отвинчивал гайки от рельсов на грузила к неводу и, как чеховский герой, отвинчивал "с умом" - по одной.
Сейчас ему грозила статья не простая - следователь хотел быть не хуже других в розысках врагов народа. Лёне "клеили" вредительство, да еще старались нащупать связи с заграницей или с троцкистами.
Счастье Лёни было в том, что он сидел в первой половине года. Во второй половине тридцать седьмого года из него попросту выбили бы всё, что нужно, - и английский шпионаж, и троцкистскую разведку. А может быть, и не выбили бы.
Много шло споров в тюрьме. Арон Коган, помню, развивал такую теорию, что, дескать, рабочий класс в целом, как социальная группа, бесспорно тверже интеллигенции, качающейся, непоследовательной, излишне гибкой социальной прослойки. Но отдельный представитель этой прослойки, интеллигент-одиночка, способен благодаря силе своего духа, моральным качествам на больший героизм, чем отдельный представитель рабочего класса.
Я возражал и говорил, что, увы, по моим наблюдениям, в лагере интеллигенты не держатся твердо. 1938 год показал, что пара плюх или палка - наиболее сильный аргумент в спорах с сильными духом интеллигентами. Рабочий или крестьянин, уступая интеллигенту в тонкости чувств и стоя ближе в своем ежедневном быту к лагерной жизни, способен сопротивляться больше. Но тоже не бесконечно.
Еда в тюрьме была такая, что Лёне и не снилось. Он послушал "лекции", научился читать и рисовать печатные буквы. Лёня хотел, чтобы следствие длилось бесконечно, чтобы не надо было возвращаться в голодную тумскую деревню. Лёня располнел нездоровой тюремной полнотой, кожа его побледнела, щеки обвисли, но он и слушать не хотел ничего о пищевом рационе.
Напротив меня лежал Мелик-Иолквиян, легкий восточный человек неопределенных лет. Хорошо грамотный, вежливый, Мелик числился историком Бухары, а в действительности был "другом дома" кого-то из "больших людей". Кого именно - установить было нельзя. Важно то, что когда умер Орджоникидзе (никто в камере не высказал предположения о самоубийстве), то долго, около двух недель, не назначали преемника. В 68-й камере (споры) выглядели тотализатором. Называлось несколько фамилий. А Мелик сказал неожиданно:
- Вы все не правы. Назначен будет Межлаук Валериан Иванович. Поработает недолго и будет снят. И Сталин скажет Молотову - это твой кандидат, последний раз тебя слушаю.
Пришел человек со свежими новостями: назначен Межлаук.
Паровозному машинисту Васе Жаворонкову был задан преподавателем на занятиях политкружка вопрос:
- Что бы вы сделали, товарищ Жаворонков, если бы советской власти не было?
- Работал бы на своем паровозе, - ответил Жаворонков простодушно.
Всё это стало материалом обвинения.
Был Синяков, работник отдела кадров Московского комитета партии. В очередной день подачи заявлений он написал бумагу и показал мне. Заявление начиналось словами: "Льщу себя надеждой, что у советской власти есть еще законы".
Рядом с Синяковым лежал Валька Фальковский, молодой московский студент, которого обвиняли в контрреволюционной агитации (ст. 58, пункт 10) и в контрреволюционной организации (ст. 58, пункт 11). Материалом агитации были его письма к невесте, а поскольку она отвечала - оба были привлечены как "группа" с применением пункта 11.
Рядом с Фальковским лежал Моисей Выгон, студент Института связи в Москве. Московский комсомолец, Выгон в одной из экскурсий на Москанал обратил внимание товарищей на изможденный вид заключенных, возводивших это знаменитое сооружение социализма. Вскоре после экскурсии он был арестован. На допросы его долго не вызывали. По-видимому, следователь Выгона принадлежал к той школе, которая предпочитает длительное утомление энергичному напору.
Выгон пригляделся к окружающим, расспросил об их делах - и написал письмо Сталину. Письмо о том, что он, комсомолец Выгон, считает себя обязанным сообщить вождю партии, что творится в следственных камерах НКВД. Что тут действует чья-то злая воля, совершается тяжкая ошибка. Выгон привел фамилии, примеры. О своем деле он не писал. Через месяц Выгона вызвали в коридор и дали расписаться, что его заявление будет рассмотрено верховным прокурором Вышинским. Еще через месяц Выгон прочел сообщение Вышинского, что заявление Выгона будет рассматривать Филиппов, тогдашний прокурор города Москвы. А еще через месяц Выгон получил выписку из протокола заседания Особого совещания с "приговором" - три года лагерей за антисоветскую агитацию. Выгон был со мной на Колыме на прииске "Партизан". Чуть не единственный из "трехлетников", он кончил срок в 1940 году и был освобожден и остался работать на Колыме - был начальником смены, прибора, участка... Мы не виделись больше с ним.
Андреев ушел раньше меня из 67-й камеры. Мы простились навсегда. И, обнимая меня, Александр Георгиевич, улыбаясь, выговорил:
- Скажу вам вот что: вы МОЖЕТЕ сидеть в тюрьме.
Это была лучшая похвала в моей жизни, особенно если помнить, что эти слова сказаны генеральным секретарем Общества политкаторжан. Я гордился этой похвалой, горжусь и сейчас.
Как всегда бывает, тюремная камера была сначала однолика, безлика, но вскоре, и чуть ли не на другой день, люди стали приобретать живые черты, стали входить в мою жизнь, в мою память один за другим. Одни вошли раньше, другие - позже. Одни вошли глубоко, навсегда, другие - промелькнули незаметно. Жизни наши сошлись на час, на день. И разошлись навсегда.
Одним из первых "оживших" для меня в камере людей был врач Валерий Андреевич Миролюбов. Было ему далеко за пятьдесят - лысеющий голубоглазый красавец, начитанный преимущественно в классической литературе, певец и скрипач, любитель, знаток музыки. Валерий Андреевич - коренной москвич, кончил медицинский факультет Московского университета еще до революции. Гражданская война свела его на фронте с Витовтом Путной, свела на всю жизнь. После гражданской Миролюбов остался домашним врачом Путны и в этой должности дожил до ареста. Путна был расстрелян вместе с Тухачевским, а в марте тридцать седьмого года он был еще жив, еще в Англии, где был военным атташе. А его домашний врач уже сидел в тюрьме, да еще на Таганке, в уголовной камере, выслушивая дикие обвинения в краже какого-то бриллианта. Внезапно все расспросы о бриллианте кончились, Миролюбова неожиданно перевели в Бутырки, Путна был уже вызван из Англии и арестован на аэродроме. Пошли на допросах речи совсем другого рода, и Валерий Андреевич почувствовал, что седеет, - на одном из допросов ему показали "признание" Путны, которое кончалось словами "всё это может подтвердить мой домашний врач доктор Миролюбов".
Валерий Андреевич умер на Колыме и не узнал никогда подробностей "дела Тухачевского".
После 68-й камеры мы встретились на пароходе, в верхнем трюме "Кулу" (пятый рейс).
- Сколько?
Валерий Андреевич растопырил пальцы одной руки.
Я горячо и искренне пожал ему руку и поздравил со столь малым сроком.
Миролюбов обиделся:
- Как вам не стыдно.
Страницы
предыдущая целиком следующая