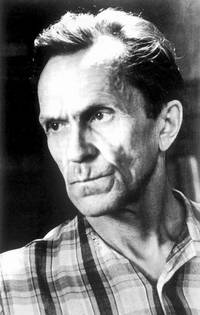Я там переночевал, а на следующий день выяснилось, что и сестра моя родная в Москве, и тетка в Кунцеве, и родители мои в Вологде живы.
Можно было спокойно приступать к выполнению поручений.
Первым моим шагом была беседа с моими прежними друзьями, и только после этой беседы я принялся за другие дела.
Первым делом было доставить письмо Миллера.
По просьбе Миллера я обещал привезти ему из Москвы его чемодан, который хранится где-то у родных, на Солянке, у тетки, зовут которую Эмилия Людвиговна Ващенко. Я нашел ее, вручил записку. Чемодан обещали найти.
- А что там в чемодане Пашином?
- Павел Петрович говорил - костюм.
- Ах, там костюм Пашин. Коверкотовый костюм. На Урале, на каторге, Паше нужен коверкотовый костюм. Паша живет в таких местах, где без коверкотового костюма обойтись нельзя. Хорошо, мы найдем чемодан. Подождем Юрочку.
Юрочка был сыном Эмилии Людвиговны.
- Ах, Павлик, Павлик, - вздыхала Ващенко. - Первое известие от него привезли вы. А какой был щеголь... Вы знаете его жену, Полину Сергеевну?
- Раз видел.
- Ну, как?
- Да никак. Было темно. Мы чай пили.
- Никак?! Павлик - негодяй, а она - святая женщина. И хоть племянник он именно мой, а она мне никто, я и на Страшном Суде скажу: Павлик - негодяй, а она - святая женщина. Как он ей изменял! Где угодно, с кем угодно. Какие-то балерины, артистки погорелого театра, а то и вовсе каких-то сомнительных дам приводил. Да не куда-нибудь, а вот в эту самую комнату. А Полина Сергеевна всё терпела. Они уже почти разошлись. И вдруг его арестовали. И вот - тюрьма. Свидания. Хождения эти по прокуратурам. Запросы, вопросы. Ведь этим артисткам и балеринам не дают разрешения на свидания. Да еще поездка на этот ваш Акатуй. Зачем ей Павел? Плюнуть этому Павлику в рожу и то она не способна. Крыжовник варит. Его любимое варенье! Как ваше имя-отчество?
- Варлам Тихонович.
- Вот, Варлам Тихонович. Судьба Полины Сергеевны - это судьба русской женщины. А декабристки - там всё была мода, порыв, а вот такая женская (судьба). Памятник Полине надо на Красной площади поставить. Еще лучше на Лубянской. А вы говорите: история рассудит. История никого не рассудит.
- Я ничего не сказал насчет истории.
- Ну, подумали.
- И не подумал.
- А чемодан вам привезет Юрочка к поезду.
Пришел наконец Юрочка - лысый инженер, лет на двадцать постарше Павла Петровича, и мы договорились, что чемодан привезет Юрочка на Ярославский вокзал к моему поезду, чтоб меня не затруднять, как сказал Юрочка.
Так и вышло. Небольшой фибровый чемодан был мне вручен перед посадкой, и я двинулся в путь на Северный Урал. Положил чемодан под голову и привязал его к пальцам руки, чтобы "скокари не отвернули угол". Я уже мог выражать ожидаемое событие на лагерном языке. Через пять ночей и пять дней я добрался до станции Усольская и слез, отвязав пальцы от чемодана.
Я вручил Миллеру привезенное. Своим ключом Павел Петрович открыл чемодан. Пыль поднялась, как грибообразное облако атомной бомбы. Взлетела моль.
- Бляди. Забыли нафталина положить, - сказал Миллер. Павел Петрович был угнетен. Разбитая, развеянная мечта. Приходилось снова облачаться в соловецкую униформу.
Среди нового окружения Павла Петровича, которое я застал после освобождения, был инженер Новиков, железнодорожный строитель, осужденный по вредительской статье и задержанный в Березниках миллеровским фильтром. Новиков помогал Павлу Петровичу в расчетах среди многочисленных и разнообразных дел, которые, как и в мое время, кипели возле Миллера. Правда, волны стали менее бурными, менее шумными, да и сам Павел Петрович облез. Полысел, поседел как-то сразу, но вечерний чай был так же горяч и крепок.
Новиков занимался в кабинете Миллера и приватно. Он продвигал изобретение - переворот в строительной технике, который должен был принести Новикову свободу и славу. Новиков изобрел саморазгружающийся вагон-платформу с опрокидывающимися бортами, повинующимися какому-то клапану в паровозе.
Были уже вычерчены все чертежи, составлено техническое описание проекта и особая докладная, где указывалось, что это изобретение ГУЛАГовских инженеров - Миллера и Новикова.
Я отнесся к этому демаршу спокойно, не тревожась за миллеровскую (подпись), - приписка чужого имени сверху была, есть и будет в науке, технике, искусстве и литературе. Она входит в правила игры, которая называется жизнью.
Поэтому я не моргнув глазом прочел доступные мне места технического описания изобретения.
Про себя я думал и думаю, что после шока, полученного при свидании с Берманом и пережитого во время стуковского дела, Миллер имел полное моральное право бороться за свое освобождение любым доступным ему путем.
Почему же мне была доверена столь строгая тайна? Ведь я не ГУЛАГ, и не в ГУЛАГ меня попросят везти эту докладную миллеровскую записку.
Оказалось, что на это были свои причины.
- Вы прочли докладную?
- Да. Поздравляю...
- Дело не в этом. При ваших знакомствах в Москве вам легко опубликовать краткое сообщение об этой работе, но обязательно в техническом журнале.
- В техническом журнале у меня нет знакомств, Павел Петрович. Но я думаю, что смогу.
- Ну, нет так нет.
Я привез эту заметку в Москву. Там был чертеж вагона, сообщение о важном изобретении инженеров Миллера и Новикова в Березниках - краткая экономная заметка строк на пятьдесят.
Я заговорил об этом с моим приятелем из литературно-художественного журнала.
- Я давно уже не работаю по литературно-художественной части.
- А где же?
- Заведую редакцией технического журнала. Мода. И хлеб.
- Так, может быть, ты сам...
- Конечно. Давай сюда.
Приятель мой просмотрел заметку.
- Это чепуха. Двести тысяч изобретений на эту тему поступает в день. Журналу нашему саморазгружающиеся вагоны осточертели до предела. Трудно придумать более не новое и более неудачное. Ведь в редколлегии нашей не только я. Есть и специалисты. Но дело не в этом. Мы напечатаем эту заметку ради тебя самого. Давай все эти чертежи сюда!
И месяца через три в журнале "Борьба за технику" эта заметка была напечатана и даже гонорар выписан - послан на имя авторов изобретения в Березники, но деньги получены обратно.
- В чем дело?
- Наверно, потому, что это заключенные, - невинно сказал я.
- Ах, это заключенные! Ну, тем лучше.
Даю всегдашнюю справку: ответственный редактор журнала "Борьба за технику" Добровский расстрелян в 1937 году.
У моего приятеля, заведующего редакцией, сломали в Лефортове, во время побоев на допросе спину. Но он еще жив и пишет...
Дело Стукова
Осенью 1930 года уполномоченный следственной части из заключенных Константин Васильевич Ушаков был отозван в управление на Вижаиху, а вместо него прибыл и принял должность вольнонаемный следователь Жигалев, носивший в петлицах один кирпичик, если память мне не изменяет. Вместе с Жигалевым приехали еще два следователя. Следственная часть помещалась тогда на втором этаже лагерного клуба, "на хорах". Там были понаделаны нужные перегородки, очень тесные, так что ноги следователя задевали того, кто вызывался и был посажен напротив, и подвергаемых допросу сажали боком.
Три новых следователя допросили чрезвычайно широкий круг людей из заключенных - всех бригадиров, а их было человек сто, всех нарядчиков, бухгалтеров, прорабов, десятников, вообще всех, кто занимал и в лагере, и на строительстве какие-либо должности. Наши местные следователи тоже принимали участие в этой облаве.
Я, начальник отдела труда, был вызван как раз к местному следователю экономотдела Пекерскому. Пекерский был москвич, проштрафившийся чекист, получивший срок по служебной статье, что, как мне было ясно с первого дня пребывания в лагере, с этапа, с пути, открывает арестанту широчайшие возможности легкого пути к свободе. Осужденный по служебной статье как бы автоматически подлежит всяким скидкам, разгрузкам и с первого дня пребывания в лагере занимается той же работой, что и на воле. Так Пекерский, московский работник НКВД, стал работать по специальности как раз в нашем отделении, в Березниках.
Пекерский посадил меня с боку своего стола - иначе и посадить было нельзя, начал допрос, записал обычные анкетные вопросы, а потом предложил подумать над вопросами, на которые он должен был записать ответы. Ответы касались какого-то производства или эпизода разгрузки баржи - что-то в этом роде. Оставив дверь открытой, Пекерский вышел и не приходил целый час. Мне было скучно, ответ был несложным, вставать и выходить из кабинета я счел неудобным. Я стал разглядывать стол, гору бумаг, заявлений каких-то, которые были навалены на столе Пекерского. Похоже, почерки были мне знакомы. Мало-помалу я стал разбирать и содержание этих документов, особенно тех, которые лежали сверху.
Это были заявления, информации сексотов, как раз по моему адресу, и вообще о лагере, о производстве. Каждый сексот имел свой псевдоним. Наш руководитель работ Иван Анатольевич Павловский, чья койка стояла рядом со мной, подписывался "Звезда". Его характерный мелкий, изящный почерк я знал хорошо. И вдруг он не Павловский, а "Звезда". Мой помощник Николай Павлович Никольский, нижегородский фининспектор, подписывался "Рубин".
Я, конечно, сразу понял, в чем дело, и познакомился со списком сексотов основательно. Это был поразительный случай доносительства абсолютно всех.
Там не было только моей информации. Не было видно почерка Миллера - начальника производственного отдела - и пьянчужки Павлика Кузнецова.
В конце концов я перебрал эти листики, прочел почти каждый. Прошло не менее часа, как вернулся Пекерский, записал мои ответы на два вопроса о засыпанной осенней шугой барже и отпустил меня. Допрашивал меня и сам Жигалев, но я уже был готов к его вопросам. Жигалев допрашивал меня вместе с Осипенко, нашим завхозом. Осипенко был раньше секретарем сначала митрополита Питирима, а потом Распутина. Я первый раз в жизни видел тогда, как падают в ноги и обнимают сапоги начальника. Осипенко на моих глазах упал в ноги Жигалеву и, обнимая сапоги, высоким тенорком молил: "Не губите, гражданин начальник!" Жигалев выдернул сапог из пальцев Осипенко и убедил секретаря Распутина, что "всё будет сделано по закону".
Мой допрос длился часа два, но как-то не попадал в нужный тон. Жигалев требовал подтвердить, что наши начальники и Миллер берут взятки с вольных, начальник бьет заключенных, бригадиры развратничают, приписывают работы. Вот как приписывают? Я ответил, что это дело не мое - производство, я занят только внутренним учетом, ни о каких взятках не слыхал.
С юности, чуть не сказал - с детства, меня раздражает благодетель, который угрозами хочет добиться признания, не умея даже определить сути преступления, и собирает материалы вовсе не о том, о чем можно было собрать. Суть допроса была, в общем, ясна: дать показания на начальника - любые. И на Миллера - не может быть, чтобы тот и другой были безгрешны.
Но я с юных лет обучен в этих учреждениях отвечать только на вопрос: да - нет, да - нет. И такой стиль беседы не удовлетворял начальство.
Сотни людей допрашивались, два приезжих следователя повезли драгоценную добычу в управление за сто километров. Жигалев остался здесь продолжать допросы. Начальник отделения, старый чекист Стуков, конечно, прекрасно был осведомлен и о действиях Жигалева, и об его улове. Допросы уже увезли в управление, но следователь ждет и других курьеров по тому же делу, других меморандумов.
Один из таких курьеров действительно был направлен Жигалевым на Вижаиху. Стуков вошел в каюту парохода за час до отъезда, обыскал курьера Жигалева, вскрыл пакет, прочел всё, что Жигалев писал, запечатал снова и, грозя наганом, велел курьеру везти почту по назначению. Пароход ушел. Стуков, не теряя времени, подговорил своего приятеля из чекистов напоить Жигалева, и, когда тот заснул в гостинице, тут же вошел Стуков и отобрал у пьяного Жигалева пистолет. Запечатанный пистолет Стуков отправил в управление по адресу Филиппова и написал, что знает, что на него, Стукова, заведено дело, но вот кто возглавил эту следственную часть. Жигалев был немедленно снят с должности, и удар Стукова попал в цель самым лучшим образом.
Недруги начальства не остановились. Из управления приехали новые следователи во главе с Агриколянским - вольнонаемным - и допрашивали, и перепроверяли по старым жигалевским допросам день и ночь. Я уж думал, что дело кончено, но глубоко ошибался. Всё было впереди.
Обычно, когда завершается какое-нибудь важное для государства строительство тюремное, какая-нибудь особенно хитрая тюрьма, ее строитель погибает в самих же этих застенках. Тут есть мистика, легенда, цветок, ежегодно поливаемый свежей кровью, легенда, уходящая в глубокую древность. Спасение требует жертв, как в океанской катастрофе. Строители, создатели лагеря на Адамовой горе, сами обновили свою тюрьму. Позднее Васьков умер в Магадане в "доме Васькова".
Вечером какого-то осеннего дня нарядчица женской роты Шура Целовальникова, двадцати четырех лет, образование среднее, статья пятьдесят восемь - десять, срок три года, по профессии учительница, потребовала у меня личного свидания. Я отрицательно отношусь ко всяким романам на службе. Более того, любовь с выполнением долга кажется мне несовместимой, требующей однозначного выбора. И более того, вся история подполья, "Народной воли" например, полна романами, нарушавшими стройный план руководителей. Эти романы и путь для всяческих провокаций. Или роман доверенных лиц - двух подпольщиков, вроде любви Желябова и Перовской, также относится к попытке примирить непримиримое. Я тоже сквозь пальцы смотрел на лагерные романы своих подчиненных, начальников, сослуживцев, но сам для себя провел незримую, но крепкую черту, за которую никогда не заходил.
Поэтому я был весьма удивлен, когда Шура Целовальникова, нарядчица женской роты, а каждая рота была у нас в Березниках в триста человек, попросила у меня личного свидания, сказав, что должна мне что-то сообщить. Это мне не понравилось. Но пришлось ее выслушать.
Целовальникова рассказала мне, что вчера ее вызывали и велели написать заявление, что я принуждал ее к сожительству.
- Ну и что же?
- Меня заставили подписать, и вот я ночью думала, думала и решила вам сказать.
- Спасибо и за это.
Мне показалось, что после того размаха, который чувствовался в допросах сотен людей, размаха, где взрыв какого-нибудь котла или всего здания был только началом, преддверием каких-то самому следователю неясных преступлений, - после такого размаха вопрос клеветы на меня Шуры Целовальниковой не имеет значения. Впрочем, думать мне долго не пришлось. В тот же вечер я был арестован, приведен в лагерный изолятор, раздет до белья и посажен в карцер. В соседний карцер тоже кого-то сажали и прижимали к щели в дверях - карцер был деревянный, старый, обновление его еще не коснулось. На месте нашего старого изолятора Миллер предполагал выстроить новый, по последнему французскому образцу, как увлеченно толковал он начальнику лагеря Стукову. Почему уж образцы были французскими, я не знаю, но разговор о том, что у нас и изолятор будет такой, что прославится на весь ГУЛАГ, я отлично помню.
Эту мечту осуществить Миллер не успел, все его помощники уже были посажены в старый, надежный изолятор, видевший немало следствий, убийц, растлителей, фармазонов, воров, пьяниц, кокаинистов, оскорбителей лагерных богов и пытающихся потушить лагерное солнце. Сейчас в камеры сводился новый социальный отряд, чтоб было не хуже, чем в Москве, и вполне достойно последней московской моды. В изолятор сажали вредителей, собственных вредителей. Был арестован начальник отдела и заключенный одноглазый Шор, с глазом-протезом, который Шор сдал на хранение при посадке как драгоценность. Шор - заведующий подсобными предприятиями, в его распоряжении были мастерские лагеря - обувная и портняжная, где работали лучшие венские портные, белошвейки сказочных способностей, где грузинская закрытая обувь шилась клиенту на "глаз" - замерялась только длина, да и этим единственным обмером творец-закройщик делал как бы уступку реальной жизни, чтоб способность поэта, мастера не казалась простым смертным сверхъестественной. Самое важное начальство концлагерей - Грановский, Шахгильдин - заказывало обувь именно в лагере. У этого поэта-закройщика.
Был закройщик и верхней одежды. Кожаная куртка чекиста Бермана, как-то незаметно удлиненная, приобретала талию, облегчала бедра, обхватывала шею, образуя неожиданно меховой, чуть не бобровый воротник. И Шахгильдин, и Грановский, и все их работники шили пальто именно в этих лагерных мастерских. Мастерские были вынесены за зону, но, конечно, закройщик обмерял начальника строительства или первого секретаря райкома на дому, где-нибудь в гостинице, а то и прямо в служебном кабинете.
Вслед за Шором в следующий карцер втолкнули жирное тяжелое тело Плеве, старого экспедитора, ведавшего снабжением лагеря. Был ли Плеве - фон Плеве, я не знаю. Возможно, что и был. Срок у него был десять лет по сто седьмой. По сто седьмой привлекали нэпманов из сочувствующих советской власти. Плеве был каким-то личным знакомым Стукова, особо доверенным лицом. Розовощекий, розовотелый пятидесятилетний пухлый Плеве едва втиснулся в тесный карцер, оглядывая мир подслеповатыми глазами - золотые очки пришлось сдать по квитанции коменданту. Плеве по этому делу должен был допрашивать уполномоченный Песнякевич, уполномоченный не из сущих или бывших зэка, а самый настоящий материковский чекист. Увидев, что они поздоровались друг с другом - Плеве поклонился достойно, а тот кивнул, сдвинув уголок рта, - я, пока ждал допроса, своей очереди в кабинете следователя, задал Плеве вопрос, знали ли они друг друга на воле.
- Еще бы, - ответил Плеве. - Его мать в Минске держала бардак, а я бывал в этом бардаке в молодые годы. В бардаке мадам Песнякевич.
Следующим был Сергеев, герой гражданской войны с переломом спины и пулевыми ранами, - Сергеев расстегнул и сдал коменданту железный корсет, оберегавший спину, и заполз в карцер.
Привели руководителя работ, помощника Миллера, Ивана Анатольевича Павловского, чьи доносы под псевдонимом "Звезда" мне удалось прочитать. Сюда в карцер Павловский, очевидно, был подсажен как "наседка", но со мной в паре его не запирали в карцер - Павловский охотился за кем-то другим.
Привели Осипенко - нашего заведующего хозяйством, бывшего секретаря Распутина, того самого, кто недели две назад обнимал сапоги уполномоченного в моем присутствии.
Тут же начались допросы. Меня на этот раз допрашивал не Жигалев, а более значительное лицо - уполномоченный Агриколянский. Мне был предложен список вопросов и дана возможность записать ответ своей рукой. К этому времени я уже пришел в бешенство и только и ждал этой возможности - первого следственного сражения. Каждый ответ мой кончался примерно такой фразой: "Показать по этому вопросу ничего не могу, прошу задавать мне вопросы, которые касаются моей личной работы". Я очертил круг обязанностей своих в лагере, официальной ответственности и применительно к этому держался.
- Слышали ли вы о падении стены завода на строителей?
- Нет, ничего не слышал.
- Как же вы не слыхали, когда об этом говорит весь лагерь?
- А я вот не слыхал. Еще раз прошу спрашивать меня по моей работе, а не о чем-то постороннем.
А там была история вот какая. Во время выгрузки оборудования из баржи бригадир заключенных Сорокин зацепил тросом за столб и сдернул крышу построенного здания.
- Что вы знаете о приписках?
- Не знаю ничего. Это не входит в мои обязанности как работника отдела труда.
- Но приписки же были.
- Кому? Я этого не знаю.
В общем, "шили" вредительство Стукову и Миллеру - самая модная болезнь, обнаруженная на Вишере, и где - в нашем же отделении!
- Почему лагерным работникам из высшей администрации давали пропуска в столовую для иностранцев?
- Я не знаю. Мне давали, я и брал. И пользовался этой столовой. Было распоряжение начальника, спросите у начальника.
Криминальность этого пропуска в столовую для иностранцев была явно политического характера. Иностранцев на Березникхимстрое было очень много: немцы, французы, американцы, англичане, - все они жили в поселке для иностранных специалистов. Для них на строительстве была выстроена гостиница и оборудован ресторан - то, что на нашем аскетическом языке называлось "столовая для иностранцев". Поскольку все повара были заключенные, все продукты шли исключительно по лагерной сети снабжения, поскольку весь комбинат строил именно лагерь, Стуков, начальник лагеря, договорился с Грановским, что даст своим пять пропусков в этот гастрономический рай. Тогда уже ухудшилось снабжение вольных, и одиноким инженерам-спецам Грановский давал возможность питаться в этой столовой. Вот из ста или двухсот пропусков вольнонаемным советским инженерам пять было закреплено за лагерем. Пропуска были именные на два раза в день - обед и ужин.
Мы занимали всегда отдельный столик и в своей лагерной робе представляли, наверное, красочную картину. Кроме этого поощрения для верхушки, рабочие бригады питались в столовой на строительстве, столовой только для заключенных. Эта столовая для заключенных функционировала весьма оживленно. Талоны в нее раздавали бригадиры, тут же поощряя лучших работяг. Таким образом, положенный лагерный паек оставался в лагере, и вечером арестант его получал. Днем обедал в столовой "от хозяина".
Страницы
предыдущая целиком следующая