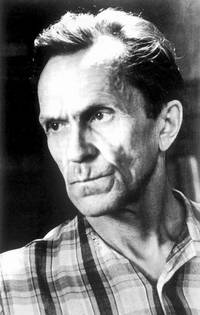- Ведь если, Валерий Андреевич, вспомнить судьбу Путны, его показания...
- Я не хочу об этом слышать.
Больше мы не виделись. Валерий Андреевич был добрым русским интеллигентом, большим кавалером и ухажером, большим лентяем, не без светских навыков. В молодости, в студенческие годы, он прославился на всю Россию и умел это вставить чуть ли не в любой свой рассказ.
У всех людей есть какое-то самое значительное событие в жизни, знаменательный день. Многих я об этом спрашивал. Для Александра Георгиевича Андреева таким событием было свержение самодержавия - 12 марта 1917 года, для Зубарева, соседа моего по одной из больниц, - покупка двадцати банок овощных консервов, когда все банки оказались со свиной тушенкой, - более потрясающего события в его жизни не было.
А Валерий Андреевич Миролюбов двадцатилетним студентом нашел бриллиантовое ожерелье княгини Гагариной. В газетах была объявлена награда - пять тысяч рублей. Дело было в 1912 году. Студент Миролюбов нашел ожерелье в канаве и принес в княжеский особняк. Князь вышел, поблагодарил и сказал, что сейчас он распорядится насчет выдачи объявленного вознаграждения. Но Миролюбов сказал, что он не хочет никаких пяти тысяч. Он - студент, нашел и принес - и всё. Князь Гагарин пригласил его к обеду, познакомил со своей женой, и до самой революции Валерий Андреевич был желанным гостем в княжеской семье.
Арона Когана я немного знал по университету 1927 года, когда он оканчивал физмат. В 1937 году он был преподавателем математики в Военно-воздушной академии. Блестящий оратор, эрудит, человек острого и подвижного ума, Арон обладал и духом столь же неустрашимым. Это о себе думал он, когда мы спорили о достоинствах интеллигента. Я и его спрашивал о самом значительном дне жизни. "Такой день у меня, конечно, есть. Только тогда я был мальчик, и мы жили на Украине. Был погром, и все были убиты - мать, отец. Я лежал на полу и кричал. Вдруг все замолчали. В дом вошел генерал. И меня не успели убить. Генерал, уходя, ударил меня ногой в живот, но я опять остался жив. Это был генерал Май-Маевский".
Почему в тюрьме говорят, что Тухачевский расстрелян, в то время как он еще выступает с речью на очередной сессии Верховного Совета? В тюремных "парашах" есть нечто мистическое.
Дело Тухачевского - не единственный случай. Из Донбасса привозят инженера, который говорит: "Саркис (первый секретарь обкома Донбасса) арестован". А вечером в "сеансе новостей" нам передают сведения о вчерашней речи Саркиса в Москве.
В чем тут дело? Что за мистическая таинственность у тюремных "параш"? Презрительное, ругательное название "параша" - сравнение тюремных слухов со зловонием известного сосуда - легкомысленно. Тюремные "параши" все сбываются и очень серьезны. Никаких случайных слухов не бывает.
"Волшебство" имеет, конечно, свое объяснение. Дело в том, что всегда, раньше ареста главного лица, арестовывают и допрашивают его окружение, его помощников, лиц, связанных с ним службою, личным знакомством. И допрашивают в весьма категорическом тоне - о предполагаемом "главе группы", герое процесса.
Из допросов, из материала, содержания любой здравомыслящий человек делает вывод (если даже следователь сам не скажет "полезную" следствию ложь, не поступит провокационно вполне сознательно), что тот, о котором спрашивают, арестован. И рождается "параша" о смерти раньше самой смерти. А после приходит и смерть.
В "собачниках" Бутырской тюрьмы стены покрыты зелеными стеклянными плитками, не оставляющими следов карандаша, гвоздя. В тюремной уборной и умывальной стены из желтых плиток - на них тоже нельзя писать. Нельзя писать и в бане - бутырская баня, где каждый стирает свое белье, - превосходная баня. И стены и скамейки покрыты метлахскими плитками. Но дверь, деревянная дверь, обита железом, и это единственный почтовый ящик на всю тюрьму. Надписи коротки: АБЗ-5. Это не название лампы для телевизора. Это - судьба человека. Александр Борисович Зарудный - 5 лет. Тюремная дверь дает ответ на важный, очень важный вопрос. Баня ведь обслуживает и этапный корпус - пересылку, бывшую тюремную церковь, где собираются все получившие приговоры, все осужденные, не успевшие еще уехать.
В тюрьме не объявляют голодовок. Дело в том, что всякая голодовка сильна связью с волей, сильна тогда, когда всё, что делается в тюрьме, известно на воле. А сейчас можно запросто умереть, и тебя сактируют. "Актировать" - это второе после пайки слово, которое должен хорошо запомнить всякий следственный (а значит, и срочный - ведь НКВД не ошибается!) арестант.
Искусственные научные дискуссии, придуманные преступления и вовсе не искусственная кровавая расплата - понимание этого дано нам тюрьмой.
Дверь в бане твердила: освобожденных нет, осуждаются все, и, значит, каждого ждет дальняя дорога. Хорошо бы подальше, на золотые прииски Колымы например. Там, говорят, текут молочные реки. А самое главное - скорее бы кончалось следствие, скорее определялась судьба. Проклятая тюрьма, без воздуха, без света. Скорее в лагерь, на волю, на чистый воздух. Скорее бы начинался и шел срок. Да еще в дальних лагерях, мы слышали, есть зачеты рабочих дней. Скорее отработать, отбыть... Хуже тюрьмы ничего нет.
Я ничего не мог сделать с этим настроением, как ни пытался доказать, что лагерь в тысячу раз хуже тюрьмы. Что Фигнер просидела в Шлиссельбургской крепости двадцать лет, а Николай Морозов - двадцать три и вышли здоровыми людьми. Что колымские болота и физический труд в лагере убьют скорее тюремных стен. Что я знал? Я же мог еще тогда объяснить, что в лагере "убивает большая пайка, а не маленькая", то есть в первую очередь умирают забойщики, выполняющие высокие проценты. Что работа на холоде в 60°, что голод, побои, многочасовой рабочий день... Некому было всё это рассказать.
Весной в камеру вошел Вебер - бывший чешский коммунист, силезский немец, привезенный с Колымы на допрос дополнительный какой-то. Он ни с кем не разговаривал и не отвечал ни на какие вопросы. Молчал, и всё... Говорил, что не знает языка. Так и промолчал не один месяц.
Я встретился с ним в вагоне-теплушке. Мы уезжали с Краснопресненской пересылки, из новой тюрьмы, которую построил Сталин, в августе 1937 года. Ночи были по-летнему теплыми, и в первую ночь все заснули веселые, возбужденные началом большого пути, воздухом, запахом города, ночной тишиной. В теплушке не спали два человека - Вебер и я.
- Спят, - сказал Вебер на чистейшем русском языке. - Сначала смеялись, теперь спят. Весело им. Не понимают: их везут на физическое уничтожение.
Разумеется, не только дверь в бане была нашим отделением связи. Можно было выбрать время и стучать в чугунную трубу - по коду Морзе или по бестужевской азбуке.
Именно в тюрьме ощутил я неожиданно, что душевное сопротивление дается мне легче, чем многим другим, что в этой страшной жизни - круглыми сутками на глазах у других - обнаруживаются какие-то незаметные ранее способности. Хотя тюрьма была вовсе не главной пробой, самое страшное было впереди - следственное время вошло в мою жизнь как хорошие дни и месяцы жизни.
Человек живет тогда, когда может помогать другим, - это, по существу, та же старая формула самоотдачи в искусстве.
Обыск на тюремном языке назывался "сухая баня". Это определение, меткое и острое, родилось после изменения тюремных порядков в обыскных делах. Всякий знает, что, несмотря на тщательные наблюдения, у арестантов как бы чудом появляются ножи, гвозди, химические карандаши, бритвы. Это чудо - результат напряженной изобретательности сотен людей, помогающих друг другу.
Кто знает, каких усилий стоит незаметно отломать и, главное, скрыть ручку от жестяной кружки, которую умелыми руками можно превратить в нож? Кто знает, сколько нужно терпения, чтобы сохранить и использовать крошечный химический грифель?
У Стендаля в "Пармской обители" сказано, что заключенный больше думает о своей решетке, чем тюремщик о своих ключах. В этом всё дело.
Много лет (может быть, сотен лет) арестанты, выходя из камеры на обыск, старались спрятать наиболее ценное - вроде половины лезвия безопасной бритвы - в камере, откуда их выводили на обыск, и, возвратившись, откапывали свои сокровища. Тюремная наука развивается как всякая наука. Нашлись передовые тюремщики, тюремщики-новаторы, которые применили простой и эффективный способ борьбы с этими подземными арестантскими кладами - просто, выводя всех жителей камеры на обыск, обратно их никогда не возвращали. Всё, что было скрыто, было безнадежно потеряно и могло обнаружиться лишь случайно. Поэтому люди из камеры 68, где я сидел после очередного обыска, вошли в камеру 69, и так далее.
Новое содержание обыска сделало ненужным внезапность, которая раньше считалась одним из условий удачи.
Напротив, тюрьма даже кокетничала, установив расписание обысков - раз в месяц в заранее назначенный день и час. Готовьтесь, арестанты, как умеете, а потом вас выведут в другой коридор и по одному пропустят через двух надзирателей, которые будут ломать спичечные коробки, срывать каблуки, крошить булки, отпарывать подкладку. Обыск занимает целый день для всей камеры - минут по тридцать - сорок на человека. Каждого раздевают догола, заглядывают в рот и в задний проход, заставляют снять протезы.
Всё, как в бане, только без воды - "сухая баня".
На Лубянке, 14, и на Лубянке, 2, надзиратели ходили по коридору в валенках. Громко разговаривать там было запрещено. "Ведущий" надзиратель щелкал пальцами, как кастаньетами, и на этот звук другой коридорный отвечал негромкими хлопками в ладоши, что означало: "дорога свободна, веди". В Бутырках водили гораздо веселее, чуть не бегом, встречались и надзиратели-женщины, в форме, конечно. В отличие от Лубянки здесь сигнал подавали, ударяя ключом о медную пряжку собственного пояса. Так же отвечал и коридорный.
На Лубянке вызов из камеры всегда был обставлен весьма драматически. Открывалась дверь, и на пороге не сразу появлялся человек в форме. Человек доставал из рукава бумажку, вглядывался в нее и спрашивал:
- Кто здесь на букву "Б" (или на букву "А")? - Выслушав ответ, говорил: - Выходи!
В Бутырках эта процедура была гораздо проще. Коридорный просто кричал в камеру:
- Иванов! Инициал как? Выходи!
Вызовы были трех "видов": прочесть и расписаться в извещении - чаще всего в приговоре. Это делалось у ближайшего окна в коридоре.
Или "с инициалом", но без вещей - чаще всего на допрос или на осмотр к врачу.
И, наконец, с вещами: или перевод, или отъезд. Теоретически могло быть и освобождение, но ведь НКВД не ошибается.
Первое впечатление не обмануло меня: тюрьма была набита битком, на 25 местах нашей камеры размещалось семьдесят - восемьдесят, редко шестьдесят человек - это все люди, попавшие любым путем в знаменитые картотеки НКВД. Это были "меченые", которых ныне ссылали без суда и следствия. Ибо следствия никакого не было, а были беседы, на которых обвинение удовлетворялось самыми поверхностными зацепками, намеками, путая знакомство по службе с "преступными связями". Результат записывался при помощи равнодушного следователя и подписывался. Никто не мог и предполагать, что за беглое знакомство с бывшим троцкистом - да и троцкистом ли? - можно выслать из Москвы, вообще как-то наказать. Оказалось, что наказывать намерены жестоко. В приговоре черным по белому - "с отбыванием срока на Колыме", в "спецуказаниях", вложенных в каждое личное дело: "тяжелые физические работы".
Но все были почему-то веселы, оживленны. Никто не выглядел недовольным. Отчасти это было следствием того нервного возбуждения, которое знакомо каждому побывавшему в тюрьме. Другая причина - невероятность осуждения невинного, невероятность, с которой нельзя примириться, в которую нельзя поверить, и третья - безвыходность. Всё равно ничего изменить нельзя. Четвертая причина: "на миру и смерть красна". Видя, что собственное "преступление" столь нелепо выдумано, каждый с доверием относился к судьбе товарища и рад и горд был ее разделить. Когда через двадцать лет я прочел стихи Ручьева и послушал речи Серебряковой о том, что их окружали в тюрьме только враги народа, а они, верные сыны партии, Ручьев и Серебрякова, вытерпели всё, веря в правду партии, - у меня опустились руки. Хуже, подлее такого растления не бывает. Вот здесь разница между порядочным человеком и подлецом. Когда подлеца сажают в тюрьму, невольно он думает, что только его посадили по ошибке, а всех остальных - за дело. А когда в тюрьму попадает порядочный человек - он, зная, что сам арестован невинно, верит, что и соседи его могут быть в том же положении.
Может быть, и пятая причина действовала. Дело в том, отнюдь не похвальном свойстве русского характера. Русский человек всему радуется: дали десять лет "зря" - рад, хорошо, что не двадцать. Двадцать дали - снова рад, могли ведь и расстрелять. Дали пять лет - "детский срок", хорошо, что не десять. А два года получил - и вовсе счастлив.
Эта пятая причина - своеобразное понимание "наименьшего зла" - приводила вполне интеллигентных людей к суждению о начальниках: конечно, Иванов лучше - бьет не так больно. А Анисимов, бывший начальник прииска "Партизан" на Колыме, бьет - ха-ха-ха! - всегда рукавицами, а не кулаком, не палкой.
Шестая причина - скорее бы кончалась неопределенность, свойственная следствию. Пусть будет хуже, да поскорее к ясному концу. Казалось, что достаточно выйти из тюремных ворот - и всё исчезнет, как дурной сон: и конвой, и камера, и следователь. Эта шестая причина сделалась убедительной и уважительной чуть позже - тогда, когда были введены пытки.
Подписал под пытками! - ничего. Важно остаться в живых. Важно пережить Сталина. В этом была логика, и сотни тысяч "подписавших", обреченных на бесчисленные страдания, душевные и физические, умирали от холода, голода и побоев, в этой единственной надежде находили силу ждать и терпеть. И они - дотерпели до конца.
Пришло время и мне получить приговор (через пять с половиной месяцев следствия), и я был переведен в этапный корпус, в бывшую тюремную церковь. Здесь была удушающая жара, все ходили и лежали голыми, и под нарами были самые лучшие места.
Здесь я встретился с Сережей Кливанским. Сережа был любителем пошутить:
- Говорят, что перед тем, как нас вымораживать на Колыме, решили выпаривать.
С Сережей я учился десять лет назад в Московском университете. На комсомольском собрании Сережа выступил по китайскому вопросу. Этого оказалось достаточно, чтоб он был исключен из комсомола, а после окончания юридического факультета не нашел работы. С трудом Сережа устроился экономистом в Госплан, но после смерти Кирова Сережу стали выживать и из Госплана.
Кливанский был скрипач-любитель. Он поработал с преподавателем и поступил по конкурсу второй скрипкой в оперный театр Станиславского и Немировича. Но на скрипке ему дали играть лишь до 1937 года. Сережа работал со мной на прииске "Партизан", а в 1938 году весной был увезен на "Серпантинку" - нечто вроде колымского Освенцима.
В Бутырках встретился я с Германом Хохловым, литературным обозревателем "Известий" того времени. Мы читали друг другу кое-какие стихи - "Роландов Рог" Цветаевой и Ходасевича "Играю в карты, пью вино" и "К Машеньке" я запомнил с тех именно времен.
Отец Хохлова был эмигрантом, умер во Франции. Сам Хохлов, обладатель нансеновского паспорта, получил высшее образование в русском институте в Праге на стипендию чехословацкого правительства, которая давалась всем желающим учиться русским эмигрантам. Такая щедрость, по словам Хохлова, была вызвана тем, что чехи во время гражданской войны увезли два поезда с царским золотом, и только третий поезд был доведен благополучно до Москвы Михайловым, комиссаром "золотого поезда". Эту историю я слыхал и раньше. Хохлов говорил вполне уверенно.
Через советское посольство Хохлов вернулся на родину, получил советский паспорт и работу в "Известиях". Статьи его о стихах мне приходилось читать.
В конце тридцать шестого года Хохлов и все другие бывшие эмигранты - экономиста казака Улитина я тоже знал по тюрьме, по 68-й камере - были арестованы и обвинены в шпионаже.
- Мы думали, что нас арестуют, что придется пробыть какое-то время в ссылке, но концентрационный лагерь! Этого мы не ждали. - Хохлов протирал очки, надевал их, снова снимал. - Черт с ним со всем! Давайте читать стихи!
Здесь был Полторак - чемпион Европы по плаванию (он умер на "Партизане" в 1938 году), юноша Борисов - тоже известный пловец того времени.
В "этапке" сидели мы, помню, недолго. Начали "выкликать" и на автобусах перевозить на "Красную Пресню", на окружную дорогу, и грузить прямо в товарный поезд, где в вагонах-теплушках были нары, на оконцах решетки, и - по 36 человек в вагоне - мы двинулись в полуторамесячное путешествие к Владивостоку. Колыма приближалась.
В Бутырской тюрьме начались мои проверки - "поверки" на целых пятнадцать лет.
Все выстраивались вдоль нар, входили два "корпусных" - сдающий и принимающий суточное дежурство - коменданта, староста сообщал количество людей, сообщал жалобы, комендант считал ряды, упираясь ключом в грудь каждого стоящего поочередно. Жестяные кружки колонкой были выстроены на столе, комендант считал и их, осматривая, не отломана ли ручка, не высажено ли дно, чтобы превратиться в орудие убийства или самоубийства.
Пересчитав кружки, комендант подходил к решетке и сверху вниз проводил по решетке ключом - получался звук вполне музыкальный - годился бы для "конкретной музыки", если бы она тогда была нам известна.
На этом ежесуточная поверка кончалась. Какие жалобы? голодовка? перевод? новости?
Иногда коменданты вступали в легкомысленные беседы. Один из четырех дежурных "корпусных", по прозвищу Американец, на чей-то вопрос, как следственным быть с выборами по новой конституции, весьма убедительно ответил:
- Никак. Ваша конституция - это Уголовный кодекс.
Это было сказано вовсе не зло и не из желания сострить. Просто "корпусный" нашел наиболее лаконичную формулу ответа.
Бутырки поражали меня не только удивительной чистотой - пахнущая лизолом тюрьма прямо блестела, не только отсутствием вшей - всякий, кто перешел порог тюрьмы, хотя бы по ошибке или на четверть часа, обязан был пройти душ и дезкамеру с "прожаркой всех вещей".
В этой огромной, на двенадцать тысяч мест, тюрьме шло беспрерывное движение заключенных круглые сутки: рейсовые автобусы на Лубянку, автобусы в транспортные отделения при вокзалах, автобусы в пересыльную тюрьму, отправка на вокзалы, в допросный корпус и обратно, переводы по указанию следователя в карцер для усиления режима, переводы по нарушениям внутритюремным - за шум в камере, за оскорбление надзирателей - в 4 башни: Полицейскую, Пугачевскую, Северную и Южную. Эти башни были как бы штрафными камерами, кроме карцерного корпуса, где в карцере можно было только стоять.
Удивительно было и то, что в этом бесконечном движении - из камеры в камеру, из камер на прогулки, в тюремные автобусы - никогда не было случая, чтобы однодельцев посадили вместе, - так четко работала Бутырская тюрьма.
Шел июль тридцать седьмого года. Судьба наша уже решилась где-то вверху, и, как в романах Кафки, никто об этом не знал. Но во время ежемесячных обходов начальник тюрьмы Попов, рыжеусый Попов, вдруг заговорил о нашем будущем:
- Вы еще вспомните нашу тюрьму. Вы увидите настоящее горе и поймете, что здесь вам было хорошо.
Он был прав, рыжеусый начальник Бутырской тюрьмы.
Зачем обходил он камеры с таким предупреждением? Кто он был такой? Почетный значок чекиста висел у него в петлице. Говорили, что его расстреляли в 1938 году, но кто это знает?
Тюрьма проще жизни. Ритм, режим, решетка: мы и они. На это всех и ловили: "Помогите государству, напишите лживое заявление - оно нужно государству". И бедный подследственный (его еще не пытали) не мог никак уразуметь, что ложь не может быть полезна государству.
Поезд шел на восток. На Дальний Восток. Сорок пять дней двигался наш эшелон. В дороге были две или три бани. Армейский санпропускник в Омске запомнился лучше всего. Но не потому, что там было "от пуза" воды и мыла, не потому, что там стояла мощная дезкамера. В Омске с нами впервые побеседовал "представитель НКВД", некий старший лейтенант в коверкотовой гимнастерке.
День был солнечный, светлый. Те, что вымылись, лежали на траве вдоль мощеной дороги, чистые, с бледной тюремной кожей оборванцы, измученные дорогой, усталостью. Вещи у всех обветшали в тюрьме - ведь лежанье на нарах изнашивает одежду скорее, чем носка. Да еще регулярные раз в десять дней "прожарки", разрушающие ткань. В тюрьме все что-то зашивают, ставят заплаты...
Перед сотнями нищих людей, окруженных конвоем, появился выбритый, жирный старший лейтенант. Отмахиваясь надушенным платочком от запаха пота и тела, "представитель" отвечал на вопросы.
- Куда мы едем?
- Этого я вам сказать не могу, - сказал представитель.
- Тогда нам нечего с вами и говорить.
- Сказать не могу, но догадываюсь, - забасил представитель. - Если бы была моя воля, я завез бы вас на остров Врангеля и отрезал потом сообщение с Большой землей. Вам нет назад дороги.
С этим напутствием мы прибыли во Владивосток.
1961
Страницы
предыдущая целиком