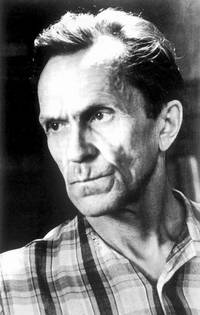- Скульптора?
- Да! Он исчез бесследно, когда многие исчезали. Он исчез под чужой фамилией, смененной в лагере на номер. А номер был вновь сменен на третью фамилию.
- Слышал о таких штуках, - сказал я.
- Вот эти шахматы его работы. Кулагин сделал их в Бутырской тюрьме из хлеба в тридцать седьмом году. Все арестанты, сидевшие в кулагинской камере, жевали часами хлеб. Тут важно было уловить момент, когда слюна и разжеванный хлеб вступят в какое-то уникальное соединение, об этом судил сам мастер, его удача - вынуть изо рта тесто, готовое принять любую форму под пальцами Кулагина и затвердеть навеки, как цемент египетских пирамид.
Две игры Кулагин так сделал. Вторая - "Завоевание Мексики Кортесом". Мексиканское смутное время. Испанцев и мексиканцев Кулагин продал или отдал за так кому-то из тюремного начальства, а русское "Смутное время" увез с собой в этап. Сделано спичкой, ногтем - ведь всякая железка запрещена в тюрьме.
- Тут не хватает двух фигур, - сказал я. - Черного ферзя и белой ладьи.
- Я знаю, - сказал Кузьменко. - Ладьи нет вовсе, а черный ферзь - у него нет головы - заперт в моем письменном столе. Так я до сих пор и не знаю, кто из черных защитников Лавры Смутного времени был ферзем.
Алиментарная дистрофия - страшная штука. Только после ленинградской блокады эту болезнь в наших лагерях назвали ее настоящим именем. А то ставили диагноз: полиавитаминоз, пеллагра, исхудание на почве дизентерии. И так далее. Тоже погоня за тайной. За тайной арестантской смерти. Врачам было запрещено говорить и писать о голоде в официальных документах, в истории болезни, на конференциях, на курсах повышения квалификации.
- Я знаю.
- Кулагин был высоким грузным человеком. Когда его привезли в больницу, он весил сорок килограммов - вес костей и кожи. Необратимая фаза алиментарной дистрофии.
У всех голодающих в какой-то тяжелый час наступает помрачение сознания, логический сдвиг, деменция, одно из "Д" знаменитой колымской триады "Д" - деменция, диаррея, дистрофия... Вы знаете, что такое деменция?
- Безумие?
- Да, да, безумие, приобретенное безумие, приобретенное слабоумие. Когда Кулагина привезли, я, врач, сразу понял, что признаки деменции новый больной обнаружил давно... Кулагин не пришел в себя до смерти. С ним был мешочек с шахматами, которые выдержали все - и дезинфекцию, и блатарскую жадность.
Кулагин съел, иссосал, проглотил белую ладью, откусил, отломил, проглотил голову черного ферзя. И только мычал, когда санитары попытались взять у Кулагина мешочек из рук. Мне кажется, он хотел проглотить свою работу, просто чтобы уничтожить, стереть свой след с земли.
На несколько месяцев раньше надо было начинать глотать шахматные фигурки. Они спасли бы Кулагина.
- Но нужно ли было ему спасение?
- Я не велел доставать ладью из желудка. Во время вскрытия это можно было сделать. И голову ферзя также... Поэтому эта игра, эта партия без двух фигур. Ваш ход, маэстро.
- Нет, - сказал я. - Мне что-то расхотелось...
1967
Человек с парохода
- Пишите, Крист, пишите, - говорил пожилой усталый врач.
Был третий час утра, гора окурков росла на столе в процедурной. На стеклах окон налип мохнатый толстый лед. Сиреневый махорочный туман наполнял комнату, но открыть форточку и проветрить кабинет не было времени. Мы начали работу вчера в восемь вечера, и конца ей не было. Врач курил папиросу за папиросой, быстро свертывая "флотские", отрывая листы от газеты. Либо - если хотел чуть отдохнуть - вертел "козью ножку". По-крестьянски обгоревшие в махорочном дыму пальцы мелькали перед моими глазами, чернильница-непроливайка стучала, как швейная машинка. Силы врача были на исходе - глаза его слипались, ни "козьи ножки", ни "флотские" не могли победить усталость.
- А чифирку. Чифирку подварить... - сказал Крист.
- А где его возьмешь, чифирку-то...
Чифирь был особо крепкий чай - отрада блатарей и шоферов для дальней дороги - пятьдесят граммов на стакан, особо надежное средство от сна, колымская валюта, валюта длинных путей, многодневных рейсов.
- Не люблю, - сказал врач. - Впрочем, разрушительного действия на здоровье в чифире я не усматриваю. Повидал чифиристов немало. Да и давно известно это средство. Не блатные придумали и не шофера. Жак Паганель варил чифирь в Австралии, угощал напитком детей капитана Гранта. "На литр воды полфунта чая и варить три часа" - вот рецепт Паганеля... А вы говорите: "водилы"! блатари! В мире нет новостей.
- Ложитесь.
- Нет, после. Вам нужно научиться опросу и первому осмотру. Это хотя и запрещено медицинским законом, но должен же я когда-нибудь спать. Больные прибывают круглые сутки. Большой беды не будет, если первый осмотр сделаете вы, вы - человек в белом халате. Кто знает - санитар вы, фельдшер, врач, академик, еще попадете в мемуары как врач участка, прииска, управления.
- А будут мемуары?
- Обязательно. Если что-нибудь важное будет, разбудите меня. Ну, - сказал врач, - начнем. Следующий.
Голый, грязный больной сидел перед нами на табуретке. Похожий не на учебный муляж, а на скелет.
- Хорошая школа для фельдшеров, а? - сказал врач. - И для врачей тоже. Впрочем, медику нужно видеть и знать совсем другое. Всё, что перед нами сегодня, - это вопрос узкой, весьма специфической квалификации. И если бы наши острова - вы поняли меня? - наши острова провалились сквозь землю... Пишите, Крист, пишите.
Год рождения 1893-й. Пол - мужской. Обращаю ваше внимание на этот важный вопрос. Пол - мужской. Этот вопрос занимает хирурга, патологоанатома, статистика морга, столичного демографа. Но вовсе не занимает самого больного, ему нет дела до своего пола...
Непроливайка моя застучала.
- Нет, пусть больной не встает, принесите ему горячей воды напиться. Снеговой воды из бачка. Он согреется, и тогда мы приступим к анализу "вита", данные о болезнях родителей, - врач постучал печатным бланком по истории болезни, - можете не собирать, не тратить время на чепуху. Ага, вот - перенесенные заболевания: алиментарная дистрофия, цинга, дизентерия, пеллагра, авитаминозы А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, 3, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я... Можете прервать перечень в любом месте. Венерические заболевания отрицает, связь с врагами народа отрицает. Пишите... Поступил с жалобами на отморожение обеих стоп, возникшее в результате длительного действия холода на ткани. Написали? На ткани... Закройтесь вот одеялом. - Врач сдернул тощее одеяло, залитое чернилами, с койки дежурного врача и набросил на плечи больного. - Когда же принесут этот проклятый кипяток? Надо бы чаю сладкого, но ни чай, ни сахар не предусмотрены в приемном покое. Продолжаем. Рост - средний. Какой? У нас нет ростомера. Волосы - седые. Упитанность, - врач поглядел на ребра, натянувшие бледную сухую дряблую кожу, - когда вы видите такую упитанность, надо писать "ниже среднего". Двумя пальцами врач оттянул кожу больного.
- Тургор кожи слабый. Вы знаете, что такое тургор?
- Нет.
- Упругость. Что в нем терапевтического? Нет, это хирургический больной, правда? Оставим место в истории болезни для Леонида Марковича, он завтра, вернее, сегодня утром посмотрит и напишет. Пишите русскими буквами "статус локалис". Ставьте две точки. Следующий!
1962
Александр Гогоберидзе
Вот так: прошло всего пятнадцать лет, а я забыл отчество лагерного фельдшера Александра Гогоберидзе. Склероз! Казалось, имя его должно бы врезаться в клетки мозга навсегда - Гогоберидзе был из тех людей, которыми гордится жизнь, а я забыл его отчество. Он был не просто фельдшер кожного отделения Центральной больницы для заключенных на Колыме. Он был мой профессор фармакологии, лектор фельдшерских курсов. Ах, как трудно было найти преподавателя фармакологии для двадцати счастливцев заключенных, для которых ученье на фельдшерских курсах было гарантией жизни, спасения. Брюссельский профессор Уманский согласился читать латинский язык. Уманский был полиглот, блестящий знаток восточных языков и морфологию слова знал еще лучше, чем патологическую анатомию, которую он читал на фельдшерских курсах. Впрочем, курс патологической анатомии был с некоторым изъятием. Немножко зная лагерь (Уманский сидел третий или четвертый срок, как все по сталинским делам тридцатых годов), брюссельский профессор наотрез отказался читать своим колымским студентам главу о половых органах - мужских и женских. И не от чрезмерной стыдливости. Словом - эту главу студентам было предложено освоить самостоятельно. На фармакологию было много желающих, но случилось так, что тот, кто должен был преподавать сей предмет, уехал "на периферию" или "в тайгу", "на трассу" - так выражались в те времена. Открытие курсов и так затянулось, и тут Гогоберидзе - в прошлом директор крупного научно-исследовательского фармакологического института в Грузии, - видя, что курсы стоят под угрозой срыва, неожиданно дал свое согласие. Курсы открылись.
Гогоберидзе понимал значение этих курсов и для двадцати "студентов", и для Колымы. Курсы учили доброму, сеяли разумное. Власть лагерного фельдшера велика, польза (или вред) весьма значительна.
Об этом мы с ним говорили после, когда я стал полноправным лагерным "лепилой" и бывал у него в его "кабинке" при кожном отделении больницы. Больничные бараки строились по типовым проектам - в отличие от построек подальше от Магадана, где больницы и амбулатории были вроде землянок "по-таежному". Впрочем, процент смертности был таков, что землянки пришлось оставить и под медицинские учреждения отвести жилые бараки. Помещений требовала и пресловутая "группа В" - временно освобожденных от работы, количество которых все росло и росло неудержимо. Смерть есть смерть, как ее ни объясняй. В объяснениях можно врать и заставлять врачей сочинять самые витиеватые диагнозы - всю клавиатуру с окончаниями на "ос" и на "ит", если имелись хоть какие-нибудь возможности сослаться на побочное, прикрывая явное. Но даже тогда, когда явное было прикрыть нельзя, на помощь врачам спешили "полиавитаминоз", "пеллагра", "дизентерия", "цинга". Никто не хотел произнести слово "голод". Только со времени ленинградской блокады в патологоанатомических и реже в клинических диагнозах историй болезни появился термин "алиментарная дистрофия". Он сразу заменил полиавитаминозы, упростил дело. Именно в это время в лагере получила большую популярность строка "Пулковского меридиана" Веры Инбер:
Горение истаявшей свечи,
Все признаки и перечни сухие
Того, что по-ученому врачи
Зовут алиментарной дистрофией.
И что не латинист и не филолог
Обозначает русским словом: "Голод".
Увы, профессор Уманский, как патологоанатом, был и филолог и латинист. Много лет он вписывал в протоколы секции мудреные "осы" и "иты".
Александр Гогоберидзе был молчалив, нетороплив - в лагере он выучился сдержанности, терпению, выучился принимать человека не по одежке - по бушлату и шапке-бамлаговке, а по целому ряду необъяснимых, но верных признаков. Симпатии опираются именно на эти неуловимые признаки. Люди не сказали друг с другом двух слов, но чувствуют обоюдное душевное расположение, или враждебность, или равнодушие, или осторожность. "На воле" этот процесс медленнее. Здесь же подсознательные эти симпатии или антипатии возникают увереннее, быстрее, безошибочнее. Огромный жизненный опыт лагерника, напряженность его нервов и большая простота человеческих отношений, большая простота познания людей - причина безошибочности таких суждений.
В больничном бараке - здании с двумя выходами, с коридором посредине - были комнатки - "кабинки" так называемые, которые легко было превратить в кладовую, в аптечку или в больничный "бокс" - изолятор. В этих "кабинках" обычно и жили заключенные-врачи, фельдшера. Весьма существенная бытовая привилегия.
"Кабинки" были крошечные, два на два метра или два на три. В комнатке там стояла кровать, тумбочка, иногда подобие крошечного стола. Посредине "кабинки" зимой и летом топилась печечка маленькая, вроде печки для кабин шоферов колымских. Печка эта и дрова к ней - маленькие чурки отнимали тоже немало жилплощади хозяина. Но все же это была собственная жилплощадь - вроде отдельной московской квартиры. Маленькое оконце, затянутое марлей. Все остальное пространство "кабинки" занимал Гогоберидзе. Огромного роста, широкоплечий, толсторукий и толстоногий, всегда бритоголовый, большеухий, он очень был похож на слона. Белый фельдшерский халат сидел на нем в обтяжку, усиливая это "зоологическое" впечатление. Только глаза у Гогоберидзе были не слоновьи - серые, быстрые, орлиные глаза.
Гогоберидзе думал по-грузински, а говорил по-русски, медленно подбирая слова. Понимал он и схватывал суть сказанного сразу - это было видно по блеску глаз.
Я думаю, ему было много за шестьдесят, когда мы встретились в 1946 году, близ Магадана. Большие кисти рук были пухлы, синеваты по-старчески. Ходил он медленно, почти всегда с палкой. Очки для дальнозорких, "старческие" очки надевались привычной рукой. Мы скоро узнали, что это гигантское тело еще сохранило гибкость движений и всю свою грозность.
Прямым начальником Гогоберидзе был доктор Кроль, врач по специальности кожных болезней, осужденный по бытовой статье не то за спекуляции, не то за мошенничество. Хихикающий подхалим, пошляк, убеждавший на лекциях курсантов, что они "не останутся без масла", если изучат кожные болезни, - как огня боявшийся всякой "политики" (впрочем, кто ее в те годы не боялся!). Взяточник, лагерный спекулянт, комбинатор, вечно связанный с ворами, которые носили ему "лепехи и шкеры".
У воров Кроль был давно "на крючке", и они помыкали им как хотели. Гогоберидзе не разговаривал со своим начальником вовсе - делал свое дело - уколы, перевязки, назначения, но в беседы с Кролем не вступал. Но однажды Гогоберидзе узнал, что от одного из заключенных - не блатаря, а фраера - Кроль требует хромовые сапоги за то, чтобы положить того на лечение в отделение, и что мзда уже вручена, - через все отделение зашагал к комнате Кроля. Кроль уже сидел дома, комната была заложена на тяжелую задвижку, искусно изготовленную для Кроля кем-то из больных. Гогоберидзе сорвал дверь и шагнул в комнату Кроля. Лицо его было багровым, руки дрожали. Гогоберидзе ревел, трубил, как слон. Он схватил сапоги и этими хромовыми сапогами исхлестал Кроля на глазах санитаров и больных. И вернул сапоги владельцу. Гогоберидзе стал ждать визита нарядчика или коменданта. Комендант, конечно, по рапорту Кроля посадит хулигана в изолятор, а может быть, лагерный начальник пошлет Гогоберидзе на общие физические работы - в таких "штрафных" случаях преклонный возраст не мог избавить от наказания. Но Кроль не подал рапорта. Ему было невыгодно навести малейший свет на след своих темных дел. Врач и фельдшер продолжали работать вместе.
Рядом со мной на школьной парте сидел курсант Баратели. Я не знаю, по какой статье он был осужден, думаю, что не по пятьдесят восьмой. Баратели называл мне однажды, но уголовные кодексы были в те времена витиеваты - я забыл эту статью. Баратели плохо владел русским языком, не выдержал приемных испытаний, но Гогоберидзе в больнице работал давно, его уважали, знали, и он сумел добиться, чтобы Баратели был принят. Гогоберидзе занимался с ним, кормил его целый год своим пайком, покупал ему махорку, сахар, Баратели относился к старику благодарно, тепло. Еще бы!
Прошло восемь месяцев героического этого ученья. Я уезжал, полноправный фельдшер, на работу в новую больницу за 500 километров от Магадана.
И пришел проститься с Гогоберидзе. И тогда он спросил меня медленно, медленно:
- Вы не знаете, где Эшба?
Вопрос был задан в октябре 1946 года. Эшба, один из видных деятелей компартии Грузии, был репрессирован давным-давно, в ежовские времена.
- Эшба умер, - сказал я, - умер на Серпантинке в самом конце тридцать седьмого года, а может быть, дожил до тридцать восьмого. Он был со мной на прииске "Партизан", а в конце 1937 года, когда на Колыме "началось", Эшбу в числе многих, многих других увезли "по спискам" на Серпантинную, где была следственная тюрьма Северного горного управления и где весь тридцать восьмой год почти непрерывно шли расстрелы.
"Серпантинная" - имя-то какое! Дорога там среди гор вьется, как серпантинная лента, - картографы так и назвали. У них ведь права большие. На Колыме есть и речка с фокстротным названием "Рио-Рита", и "Озеро танцующих хариусов", и ключи "Нехай", "Чекой" и "Ну!". Развлечение стилистов.
В 1952 году зимой случилось мне ехать на перекладных - олени, собаки, лошади, кузов грузовика, пеший переход и снова кузов грузовика - огромного чехословацкого "Татра", лошади, собаки, олени - в больницу, где когда-то - еще год назад - работал я. Здесь и узнал от врачей той больницы, где я учился, что Гогоберидзе - у него был срок 15 лет плюс 5 поражения в правах - окончил срок живым и получил ссылку на вечное поселение в Якутию. Это было еще жестче, чем обычное пожизненное прикрепление в ближайшем от лагеря поселке - так практиковали там и позднее, чуть не до 1955 года. Гогоберидзе сумел добиться права остаться в одном из поселков Колымы, не переезжая в Якутию. Было ясно, что организм старика не выдержит такой поездки по Дальнему Северу. Гогоберидзе поселился в поселке Ягодном, на 543-м километре от Магадана. Работал там в больнице. Когда я возвращался на место своей работы под Оймякон, я остановился в Ягодном и зашел повидать Гогоберидзе, он лежал в больнице для вольнонаемных, лежал как больной, а не работал там фельдшером или фармацевтом. Гипертония! Сильнейшая гипертония!
Я зашел в палату. Красные и желтые одеяла, ярко освещенные откуда-то сбоку, три пустых койки - и на четвертой, закрытый ярким желтым одеялом до пояса, лежал Гогоберидзе. Он узнал меня сразу, но говорить почти не мог из-за головной боли.
- Как вы?
- Да так. - Серые глаза блестели по-прежнему живо. Прибавилось морщин.
- Поправляйтесь, выздоравливайте.
- Не знаю, не знаю.
Мы распрощались.
Вот и всё, что я знаю о Гогоберидзе. Уже на Большой земле из писем я узнал, что Александр Гогоберидзе умер в Ягодном, так и не дождавшись реабилитации прижизненной.
Такова судьба Александра Гогоберидзе, погибшего только за то, что он был братом Левана Гогоберидзе. О Леване же - смотри воспоминания Микояна.
1970-1971
Уроки любви
- Вы - хороший человек, - сказал мне недавно наш траповщик - бригадный плотник, налаживающий трапы, по которым катают тачки с породой и песками на промывочный прибор, на бутару. - Вы никогда не говорите плохо и грязно о женщинах.
Траповщик этот был Исай Рабинович, бывший управляющий Госстрахом Советского Союза. Когда-то он ездил принимать золото от норвежцев за проданный Шпицберген в Северном море, в штормовую погоду перегружал мешки с золотом с одного корабля на другой в целях конспирации, заметания следов. Прожил он чуть ли не всю жизнь за границей, был связан многолетней дружбой со многими крупными богачами - Иваром Крейгером, например. Ивар Крейгер, спичечный король, покончил жизнь самоубийством, но в 1918 году он был еще жив, и Исай Рабинович с дочерью гостил у Крейгера на французской Ривьере.
Советское правительство искало заказов за границей, и поручителем для Крейгера был Исай Рабинович. В 1937 году он был арестован, получил десять лет. В Москве у него оставались жена и дочь - единственные его родственники. Дочь во время войны вышла замуж за морского атташе Соединенных Штатов Америки, капитана I ранга Толли. Капитан Толли получил линкор на Тихом океане, уехал из Москвы на новое место службы. Еще раньше капитан Толли и дочь Исая Рабиновича написали письма в концентрационный лагерь - к отцу и будущему тестю, - капитан просил разрешения на брак. Рабинович погоревал, покряхтел и дал положительный ответ. Родители Толли прислали свое благословение. Морской атташе женился. Когда он уезжал, жене его, дочери Исая Рабиновича, не разрешили сопровождать мужа. Супруги немедленно развелись, и капитан Толли убыл к месту нового своего назначения, а бывшая его жена работала на какой-то незначительной должности в Наркоминделе. Она прекратила переписку с отцом. Капитан Толли не писал ни бывшей жене, ни бывшему тестю. Прошло целых два года войны, и дочь Рабиновича получила кратковременную командировку в Стокгольм. В Стокгольме ее ждал специальный самолет, и жена капитана Толли была доставлена к мужу...
После этого Исай Рабинович стал получать в лагерь письма с американскими марками и на английском языке, что чрезвычайно раздражало цензоров... Эта история с бегством после двух лет ожидания - ибо капитан Толли вовсе не считал свою женитьбу московской интрижкой - одна из историй, в которых мы очень нуждались. Я никогда не замечал, говорю ли я о женщинах хорошо или плохо, - все ведь, кажется, было давно вытравлено, забыто, и я вовсе не мечтал ни о каких встречах с женщинами. Для того чтобы быть онанистом на тюремный манер, надо быть прежде всего сытым. Развратника, онаниста, а равно и педераста нельзя представить голодным.
Был красавец парень лет двадцати восьми, десятник на больничном строительстве, заключенный Васька Швецов. Больница была при женском совхозе, надзор слабоват, да и закуплен - Васька Швецов пользовался сногсшибательным успехом.
- Много я знал баб, много. Дело это простое. Только ведь, верите, дожил почти до тридцати лет и ни разу еще с бабой в кровати не лежал - не пришлось. Все второпях, на каких-то ящиках, мешках, скороговоркой... Я ведь с мальчиков в тюрьме-то...
Другой был Любов, блатарь, а скорее "порчак", "порченый штымп" - а ведь из "порченых штымпов" выходят люди, которые по своей злобной фантазии могут превзойти болезненное воображение любого вора. Любов, высокий, улыбающийся, нагловатый, постоянно в движении, рассказывал о своем счастье:
- Везло мне на баб, грех сказать, везло. Там, где я до Колымы был, - лагерь женский, а мы - плотники при лагере, нарядчику брюки почти новые, серые отдал, чтоб туда попасть. Там такса была, пайка хлеба, шестисотка, и уговор - пока лежим, пайку эту она должна съесть. А что не съест - я имею право забрать назад. Давно они уж так промышляют - не нами начато. Ну, я похитрей их. Зима. Я утром встаю, выхожу из барака - пайку в снег. Заморожу и несу ей - пусть грызет замороженную - много не угрызет. Вот выгодно жили...
Может ли придумать такое человек?
И кто представит себе женский лагерный барак ночью, барак, где все - лесбиянки, барак, куда не любят ходить сохранившие каплю человеческого надзиратели и врачи и любят ходить надзиратели-эротоманы и врачи-эротоманы. И плачущая Надя Громова, девятнадцатилетняя красавица, лесбиянка - "мужчина" лесбийской любви, подстриженная под бокс, в мужских штанах, усевшаяся, к ужасу санитаров, на заповедное кресло заведующей приемным покоем - только одно, сделанное на заказ, кресло вмещало зад заведующей, - Надя Громова, плачущая оттого, что ее не кладут в больницу.
- Дежурный врач не кладет меня потому, что думает, что я... а я, клянусь честью, никогда, никогда. Да посмотрите мои руки - видите, ногти какие длинные, - разве можно?
И возмущенный старик санитар Ракита негодующе плюнул: "Ах, стерва, стерва".
А Надя Громова плакала и не могла понять, почему никто не хочет ее понять - ведь она выросла в лагерях, около лесбиянок.
И слесарь-водопроводчик Харджиев, молодой, розовощекий, двадцатилетний, бывший власовец, сидевший в тюрьме в Париже за воровство. В парижской тюрьме Харджиева изнасиловал негр. У негра был сифилис - того самого острого сорта последней войны - у Харджиева в заднем проходе были кандиломы - сифилитические разращения, пресловутая "капуста". С прииска в больницу он был направлен с диагнозом "проляпсус ректи" - то есть "выпадение прямой кишки". Таким вещам в больнице давно не удивлялись - одного выброшенного на ходу из машины стукача, получившего множественный перелом бедра и голени, местный фельдшер направил с диагнозом "проляпсус из машины". Слесарь Харджиев был очень хороший слесарь, нужный больнице человек. Удобно, что у него был сифилис, - целый курс ему провели, пока он работал на сборке парового отопления совершенно бесплатно, числясь на больничной койке.
В следственной тюрьме, в Бутырках, о женщинах почти не говорили. Там каждый стремился представить себя хорошим семьянином - а может, так это и было, да и некоторые жены, не партийные, ходили на свидания и носили денежные передачи, доказывая правоту оценок Герцена, данных им в томе первом "Былого и дум" о женщинах русского общества после 14 декабря.
К любви ли относится растление блатарем суки-собаки, с которой блатарь жил на глазах всего лагеря, как с женой. И развращенная сучонка виляла хвостом и вела себя с любым человеком, как проститутка. За это почему-то не судили, хотя ведь в уголовном кодексе есть статья о "скотоложестве". Но мало ли кого и за что в лагере не судили. Не судили доктора Пенелопова, старика педераста, женой которого был фельдшер Володарский.
Относится ли к теме судьба невысокой женщины, никогда не бывшей в заключении, приехавшей сюда с мужем и двумя детьми несколько лет назад. Муж ее был убит - он был десятником и ночью в темноте на льду наткнулся на железный скрепер, который тащила лебедка, и скрепер ударил ее мужа в лицо, и еще живым его привезли в больницу. Удар пришелся прямо поперек лица. Все кости лица и черепной коробки ниже лба были смещены назад, но он был еще жив, жил несколько дней. Жена осталась с двумя маленькими детьми, четырех и шести лет, мальчиком и девочкой. Она скоро вышла замуж снова за лесничего и жила с ним три года в тайге, не показывалась в большие поселки. Она родила еще двух детей за три года - девочку и мальчика и принимала роды у себя сама, муж дрожащими руками подавал ей ножницы, она сама перевязывала и обрезала собственную пуповину и смазывала йодом конец пуповины. С четырьмя детьми она пробыла в тайге еще год, муж простудил ухо, в больницу не поехал, началось гнойное воспаление среднего уха, затем воспаление пошло еще глубже, поднялась температура, и он приехал в больницу. Ему срочно была сделана операция, но было уже поздно - он умер. Она вернулась в лес, не плача - чему помогут слезы?
Имеет ли отношение к теме ужас Игоря Васильевича Глебова, который забыл имя и отчество своей собственной жены? Мороз был большой, звезды - высокими и яркими. Ночью конвоиры бывают более людьми - днем они боятся начальства. Ночью нас отпускали погреться к бойлеру по очереди, бойлер - это котел, где вода нагревается паром. От котла идут трубы с горячей водой в забои, и там бурильщики с помощью пара бурят отверстия в породе - бурки, и взрывники взрывают грунт. Бойлер в дощатой избушке-шалаше, и там - тепло, когда топится бойлер. Бойлерист - самая завидная должность на прииске, мечта всех. На эту работу берут и людей пятьдесят восьмой статьи. Бойлеристами в 1938 году были на всех приисках инженеры, блатарям начальство не особенно любило доверять такую "технику", боясь картежной игры или чего-нибудь еще.
Но Игорь Васильевич Глебов не был бойлеристом. Он был забойщик из нашей бригады, а до тридцать седьмого года был профессором философии в Ленинградском университете. Это мороз, холод, голод заставили его забыть имя жены. На морозе нельзя думать. Нельзя ни о чем думать - мороз лишает мыслей. Поэтому лагеря устраивают на севере.
Игорь Васильевич Глебов стоял у бойлера и, завернув руками телогрейку и рубашку вверх, грел голый свой замерзший живот о бойлер. Грел и плакал, и слезы не застывали на ресницах, на щеках, как у каждого из нас, - в бойлере было тепло. Через две недели Глебов разбудил меня ночью в бараке сияющий. Он вспомнил: Анна Васильевна. И я не ругал его и постарался заснуть снова. Глебов умер весной тридцать восьмого года - он был слишком крупен, велик для лагерного пайка.
Медведи казались мне настоящими только в зоологическом саду. В Колымской тайге и еще раньше в тайге Северного Урала я несколько раз встречался с медведями, всякий раз днем, и всякий раз они казались мне игрушечными медведями. И той весной, когда везде была прошлогодняя трава, и ни одна ярко-зеленая травинка еще не распрямлялась, и ярко-зеленым был только стланик, и еще коричневые лиственницы с изумрудными когтями, и запах хвои - только молодая лиственница да цветущий шиповник на Колыме и пахнут.
Медведь пробежал мимо избы, где жили наши бойцы, наша охрана - Измайлов, Кочетов и еще третий, фамилию которого я не помню. Этот третий в прошлом году часто приходил в барак, где жили заключенные, и брал у нашего бригадира шапку и телогрейку - он ездил на "трассу" продавать бруснику стаканами или "чохом", а в форменной фуражке ему было неловко. Бойцы были смирные, понимали, что вести себя в лесу надо иначе, чем в поселке. Бойцы не грубили, никого не заставляли работать. Измайлов был старшим. Когда ему нужно было уходить, он прятал тяжелую винтовку под пол, вывертывая топором и сдвигая с места тяжелые лиственничные плахи. Другой, Кочетов, прятать под пол винтовку боялся и все таскал ее с собой. В этот день дома был только Измайлов. Услышав от повара про подошедшего медведя, Измайлов надел сапоги, схватил винтовку и выбежал на улицу в нижнем белье - но медведь уже ушел в тайгу. Измайлов с поваром побежали за ним, но медведя нигде не было видно, болото было топким, и они вернулись в поселок. Поселок стоял на берегу небольшого горного ключа, но другой берег был почти отвесной горой, покрытой невысокими редкими лиственницами и кустами стланика.
Гора вся была видна - сверху донизу, до воды - и казалась очень близкой. На небольшой полянке стояли медведи - один побольше, другой поменьше - медведица. Они боролись, ломали лиственницы, швыряли друг в друга камнями, не спеша, не замечая людей внизу, бревенчатых изб нашего поселка, которых и всех-то было пять вместе с конюшней.
Измайлов в нижнем бязевом белье с винтовкой и за ним жители поселка, каждый кто с топором, а кто с куском железа, повар с огромным кухонным ножом в руках подбирались с наветренной стороны к играющим медведям. Казалось, что они подошли близко, и повар, потрясая огромным ножом над головой конвоира Измайлова, хрипел: "Бей! Бей!"
Измайлов приладил винтовку на упавшей гнилой лиственнице, и медведи услышали что-то, или то предчувствие охотника, дичи, предчувствие, которое, несомненно, существует, предупредило медведей об опасности.
Медведица кинулась вверх по склону - бежала она вверх быстрее зайца, а старый самец не побежал, нет - он пошел вдоль горы, не спеша, убыстряя шаг, принимая на себя всю опасность, о которой зверь, конечно, догадывался. Щелкнул винтовочный выстрел, и в этот момент медведица исчезла за гребнем горы. Медведь побежал быстрее, побежал по бурелому, по зелени, мшистым камням, но тут Измайлов изловчился и ударил из винтовки еще раз - и медведь скатился с горы, как бревно, как огромный камень, скатился прямо в ущелье на толстый лед ручья, который тает только с августа. На ослепительном льду лежал медведь неподвижно, на боку, похожий на огромную детскую игрушку. Он умер, как зверь, как джентльмен.
Много лет раньше в разведочной партии я шел с топором по медвежьей тропе. Сзади меня шел геолог Махмутов с мелкокалиберкой через плечо. Тропа огибала огромное дуплистое, полусгнившее дерево, и я на ходу ударил обухом топора по дереву, а из дупла на траву выпала ласка. Ласка была на сносях и еле передвигалась по тропе, не пытаясь убежать. Махмутов снял мелкокалиберку с плеча и в упор выстрелил в ласку. Убить он ее не смог, а только оторвал ей ноги, и крошечный окровавленный зверек, умирающая брюхатая мать поползла молча на Махмутова, кусая его кирзовые сапоги. Блестящие глаза ее были бесстрашны и злобны. И геолог испугался и побежал по тропе от ласки. И я думаю, что он может молиться своему богу, что я не зарубил его тут же на медвежьей тропе. Было в моих глазах что-то такое, почему Махмутов не взял меня в следующий свой геологический поиск...
Что знаем мы о чужом горе? Ничего. О чужом счастье? Еще того меньше. Мы и о своем-то горе стремимся забыть, и память добросовестно слаба на горе и несчастье. Уменье жить - это уменье забывать, и никто не знает этого так хорошо, как колымчане, как заключенные.
Что такое Освенцим? Литература или... а ведь за Освенцимом у Стефы была редкая радость освобождения, а затем она, в числе десятков тысяч других, жертва шпиономании, попала в нечто худшее, чем Освенцим, попала на Колыму. Конечно, на Колыме не было душегубок, здесь предпочитали вымораживать, "доводить" - результат был самый утешительный.
Стефа была санитаркой женского туберкулезного отделения больницы для заключенных - все санитарки были из больных. Десятками лет лгали, что горы Дальнего Севера - что-то вроде Швейцарии, и "Дедушкина лысина" выглядела чем-то вроде Давоса. Во врачебных сводках первых лагерных лет Колымы вовсе туберкулез не упоминался или упоминался крайне редко.
Страницы
предыдущая целиком следующая