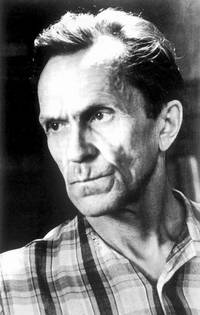- Или генеральская трусость.
- Но ведь бдительность и трусость почти одно и то же в наши дни. Да и не в наши, пожалуй, - сказал молодой врач, получивший образование психиатра.
Я подал письменное заявление о расчете, но получил винокуровскую резолюцию: "Уволить по КЗОТу". Таким образом, я терял права "находящегося в пути" и право на бесплатный проезд. Денег у меня заработано не было ни копейки, но, разумеется, я и не думал изменить решение. У меня был на руках паспорт, хоть и без прописки - прописку на Колыме делают иным способом, чем на Большой земле - все штампы ставятся задним числом, при увольнении. Я надеялся получить в Магадане разрешение на выезд, на включение в ускользнувший от меня год назад этап. Я потребовал документы, выписал первую и единственную свою трудовую книжку, она и сейчас хранится у меня, сложил вещи, распродал все лишнее - полушубок, подушку, сжег свои стихи в дезкамере приемного покоя и стал ловить попутку в Магадан. Ловил эту попутку я недолго.
В ту же ночь меня разбудил подполковник Фрагин с двумя конвоирами, отобрал у меня паспорт, запечатал паспорт в пакет вместе с какой-то бумажкой и вручил пакет конвоиру и протянул руку в пространство:
- Там сдашь его.
Он - это я.
Привыкший за много лет заключения относиться с достаточным уважением к форме "человек с ружьем" и видевший миллионы раз произвол в миллион раз сильнее - Фрагин был только робким учеником своих многочисленных учителей самого высшего ранга, - я промолчал и подчинился оскорбительно беззаконному, неожиданному удару в спину. Наручников мне, правда, не надели, но достаточно ярко показали мне мое место и что такое бывший зэка в нашем серьезном мире. Еще раз проехал я под конвоем эти пятьсот верст до Магадана, которые столько раз проезжал. В райотдел Магадана не приняли меня, и конвоир остался на улице, не зная, куда меня сдать. Я посоветовал конвоиру сдать в отдел кадров санотдела, куда я по смыслу увольнения и должен был быть направлен. Начальник отдела кадров, не помню его фамилию, выразил величайшее удивление такой переброской вольнонаемного состава. Однако он дал конвоиру расписку, вручил мне мой паспорт, и я вышел на улицу под серый магаданский дождь.
1973
Вечная мерзлота
Я первый раз начал свою самостоятельную фельдшерскую работу, приняв фельдшерский участок, где врачи могли быть только наездами, - на Адыгалахе, из Дорожного управления, - первый раз не из-под руки врача, как на Левом берегу в Центральной больнице, где я работал не вполне самостоятельно.
Я был самый главный по врачебной линии. Всего в трех местах было около трехсот человек лагерников, которых я обслуживал. После объезда, поголовных медосмотров всех моих подопечных я наметил себе кое-какой план действий, по которому мне надлежало шагать по Колыме.
В моем списке было шесть фамилий.
Номер один - Ткачук. Ткачук был начальником ОЛПа, где мне предстояло работать. Ткачуку надлежало услышать от меня, что на всех командировках у всех заключенных найдены вши, но что я, новый фельдшер, имею план надежной и быстрой ликвидации всякой вшивости, с полной ответственностью всю прожарку буду проводить сам, приглашаю любых зрителей. Вши - это давний бич лагерей. Все дезкамеры Колымы, за исключением магаданской транзитки, - все это лишь мучение для заключенных, а не ликвидация вшивости. Я же знал способ верный - научился у банщика на лесной командировке на Левом берегу: прожарка в бензиновых баках горячим паром, ни вшей, не гнид не остается. Только в каждую бочку можно вкладывать не более пяти комплектов одежды. Это я делал полтора года на Дебине, показал и в Барагоне.
Номер два - Зайцев. Зайцев был заключенный-повар, которого я знал еще по двадцать третьему километру, по Центральной больнице. Сейчас он работал поваром здесь же под моим наблюдением. Ему надо было доказать, взывая к его поварской совести, что из раскладки, которую мы знаем оба, можно получить вчетверо больше блюд, чем выдавалось у нас из-за лености Зайцева. Там не в кражах надзирателей и прочих было дело. Ткачук был человек строгий, не давал спуску ворам, а просто каприз повара ухудшал питание заключенных. Мне удалось убедить Зайцева, пристыдить, Ткачук кое-что ему пообещал, и Зайцев из тех же продуктов стал готовить гораздо больше и даже горячие суп и кашу стал в бидонах возить на производства - невиданная вещь для Кюбюмы и Барагона.
Третий - Измайлов. Был вольнонаемный банщик, стирал белье заключенным, и стирал его плохо. Ни в забой, ни на разведку чрезвычайно здорового физически человека выставить было невозможно. Банщик для заключенных получает гроши. Но Измайлов держался за свою работу, не хотел слушать никаких советов, оставалось только снять его с работы. Большой тайны в его поведении не было. Стирая небрежно заключенным, Измайлов отлично стирал всем вольным начальникам вплоть до уполномоченного, получал за все щедрые подарки - и деньги, и продукты, - но Измайлов ведь был вольнонаемный, и я надеялся, что должность заключенного для этой работы мне удастся отстоять.
Четвертый - Лихоносов. Это был заключенный, которого не оказалось на медосмотре в Барагоне, и так как мне надо было уезжать, я решил не задерживать отъезд из-за одного человека и подтвердить старые формулы по личному делу. Но личного дела Лихоносова в УРЧ не оказалось, и так как Лихоносов работал дневальным, мне надлежало вернуться к этой щекотливой теме. Я как-то проездом застал Лихоносова на участке и побеседовал с ним. Это был сильный, упитанный, розовощекий человек лет сорока, с блестящими зубами и густой шапкой седых волос и седой окладистой огромной бородой. Возраст? Личное дело Лихоносова интересовало меня именно с этой стороны.
- Шестьдесят пять.
Лихоносов был возрастной инвалид и по своей инвалидности работал дневальным в конторе. Здесь был явный обман. Передо мной был взрослый, здоровый мужчина, который вполне может работать на общих. Срок у Лихоносова был пятнадцатилетний, а статья не пятьдесят восьмая, а пятьдесят девятая, но тоже - по его собственному ответу.
Пятый - Нишиков. Нишиков был мой санитар в амбулатории, из больных. Такой санитар существует во всех амбулаториях лагерных. Но Нишиков был слишком молод, лет двадцати пяти, слишком краснощек. О нем надо было подумать.
Когда я написал номер шесть, в дверь постучали, и порог моей комнаты в вольном бараке переступил Леонов - номер шесть моего списка. Я поставил около фамилии Леонова вопрос и повернулся к вошедшему.
В руках у Леонова были две половые тряпки и таз. Таз, конечно, не казенного образца, а колымский, искусно сделанный из консервных банок. В бане были тоже такие консервные тазы.
- А как тебя пропустили через вахту в такое время, Леонов?
- Они меня знают, я всегда мыл полы у прежнего фельдшера. Тот был очень чистоплотный человек.
- Ну, я не такой чистоплотный. Мыть сегодня не надо. Иди в лагерь.
- А другим вольным?..
- Тоже не надо. Сами вымоют.
- Я хотел попросить вас, гражданин фельдшер, оставьте меня на этом месте.
- А ты ни на каком месте.
- Ну, проводили меня кем-то. Я буду мыть полы, чисто будет, полный порядок, я болен, внутри что-то ноет.
- Ты не болен, ты просто обманываешь врачей.
- Гражданин фельдшер, я боюсь забоя, боюсь бригады, боюсь общих работ.
- Ну, всякий боится. Ты вполне здоровый человек.
- Вы ведь не врач.
- Верно, не врач, но - или завтра на общие работы, или я тебя отправлю в управление. Там пусть врачи тебя осматривают.
- Я предупреждаю вас, гражданин фельдшер, я жить не буду, если меня снимут с этой работы. Я буду жаловаться.
- Ну, хватит болтать, иди. Завтра в бригаду. Перестанешь разбрасывать чернуху.
- Я не разбрасываю чернухи.
Леонов бесшумно закрыл дверь. Под окном прошуршали его шаги, а я лег спать.
На разводе Леонова не оказалось, и, по соображениям Ткачука, наверное, Леонов сел на какую-нибудь попутную машину и давно в Адыгалахе, жалуется.
Часов в двенадцать дня бабьего лета Колымы, отметного ослепительными лучами холодного солнца на ярко-голубом небе, в холодном безветренном воздухе, меня позвали в кабинет Ткачука.
- Пойдем-ка акт составим. Заключенный Леонов покончил с собой.
- Где же?
- В бывшей конюшне висит. Я не велел снимать. Послал за уполномоченным. Ну и ты как медик засвидетельствуешь смерть.
В конюшне повеситься было трудно, тесно. Тело Леонова заняло место двух лошадей, единственное возвышение, на которое он привстал, чтобы сбить ногой опору, был банный тазик. Леонов висел уже давно - обозначился рубец на шее. Уполномоченный, тот самый, которому стирал белье вольнонаемный банщик Измайлов, писал: "Страгуляционная борозда проходит..." Ткачук сказал:
- А вот у топографов есть триангуляция. Это не имеет отношения к страгуляции?
- Никакого, - сказал уполномоченный.
И мы все подписали акт. Заключенный Леонов не оставил письма. Труп Леонова увезли, чтобы привязать ему на левую ногу бирку с номером личного дела и зарыть в камни вечной мерзлоты, где покойник будет ждать до Страшного Суда или до любого другого воскресения из мертвых. И я понял внезапно, что мне уже поздно учиться и медицине, и жизни.
1970
Иван Богданов
Иван Богданов, однофамилец начальника района на Черном озере, был белокурым сероглазым красавцем атлетического сложения. Богданов был осужден по статье сто девятой - за служебное преступление - на десять лет, но, хорошо разбираясь в ситуации, понимал что к чему в то время, когда головы косила сталинская коса. Богданов понимал, что только чистый случай сохранил его от смертного клейма пятьдесят восьмой статьи.
Богданов работал у нас в угольной разведке бухгалтером, нарочно бухгалтером из заключенных, на которого можно накричать, которому можно приказать заштопать, залатать плохо поставленный учет утечек, вокруг которых кормилось семейство первого начальника района Парамонова и его ближайшего окружения, попавшего под золотой дождь в виде концентратов, полярных пайков и прочего.
Задачей Богданова, так же как и его однофамильца, начальника района, бывшего следователя тридцать седьмого года - о нем я написал в очерке "Богданов" исчерпывающим образом, - было не вскрыть злоупотребления, а, наоборот, залатать все огрехи, привести в достаточно христианский вид.
Заключенных было в районе в 1939 году, когда разведка начиналась, всего пять (в том числе и я - инвалид после бури в золотых забоях 1938 года), и, конечно, ничего из труда заключенных тут выжать не было возможно.
Обычай - эта многовековая лагерная традиция еще со времен Овидия Назона, который, как известно, был начальником ГУЛАГа в Древнем Риме, - говорит, что любые прорехи можно залатать бесплатным принудительным, неоплачиваемым арестантским трудом, который по трудовой стоимости Маркса и составляет главную ценность продукта. На этот раз трудом рабов воспользоваться было нельзя, нас было слишком мало для сколько-нибудь серьезных экономических надежд.
Воспользоваться трудом полурабов-вольняшек, бывших зэкашек, было можно, их было более сорока человек, которым Парамонов обещал, что через год они поедут на материк "в цилиндрах". Парамонов, бывший начальник прииска "Мальдяк", на котором отбывал свои колымские две или три недели, пока не дошел, не "доплыл", не вступил в ряды доходяг, генерал Горбатов, - Парамонов имел большой опыт "открывать" полярные предприятия, хорошо зная что к чему. В результате Парамонов не попал под суд за произвол, как на "Мальдяке", ибо никакого произвола и не было, а была рука судьбы, размахивавшая смертной косой и уничтожавшая вольных, а главное, заключенных по статье КРТД.
Парамонов оправдался, ибо "Мальдяк", где умирало тридцать человек в день в тридцать восьмом, отнюдь не был худшим местом Колымы.
Парамонов и его заместитель по хозяйственной части Хохлушкин хорошо понимали, что нужно действовать быстро, пока в районе нет учета, нет бухгалтерии, ответственной и квалифицированной.
Это кража - а такая вещь, как пищевой концентрат, как консервы, как чай, как вино, как сахар, делает миллионером любого начальника, который прикоснулся к царству современного колымского Мидаса, - все это Парамонов отчетливо понимал.
Понимал он также, что он окружен стукачами, что любой его шаг будет изучен. Но нахальство - второе счастье, по блатной поговорке, а блатную феню Парамонов знал.
Короче говоря, после его управления, очень гуманного, как бы устанавливающего равновесие после произвола прошлого года, то есть тридцать восьмого года, когда Парамонов был на "Мальдяке", оказалась огромная нехватка из самых, самых мидасовских ценностей.
У Парамонова нашлись возможности откупиться, задарить своих следователей. Его не арестовали, а только отстранили от работы. Наводить порядок явились два Богданова - начальник и бухгалтер. Порядок был наведен, но за все растраты начальников пришлось платить тем самым четырем десяткам вольняшек, которые ничего не получали (как и мы) - получали вдесятеро меньше положенного. Фальшивыми актами обоим Богдановым удалось залатать зияющую на глазах Магадана дыру.
Вот эта задача и была поставлена перед Иваном Богдановым. Его образование - средняя школа и бухгалтерские курсы на воле.
Богданов был односельчанином Твардовского и немало подробностей его истинной биографии рассказывал, но судьба Твардовского мало нас тогда интересовала - были проблемы посерьезней...
Мы сдружились с Иваном Богдановым, и хотя по инструкции бытовик должен возвышаться над лагерником, каким был я, - Богданов на крошечной нашей командировке действовал совершенно иначе.
Иван Богданов был любитель пошутить, послушать "роман", сам рассказать - это с его рассказом вошла в мою жизнь классическая история о брюках жениха. История рассказывалась от первого лица, и суть была в том, что жениху Ивану невеста заказала брюки перед свадьбой. Жених был победнее, семья невесты побогаче, и это был поступок вполне в духе века.
У меня также при моем первом браке по настоянию невесты были сняты все деньги с книжки и заказаны черные брюки лучшего качества у лучшего портного Москвы. Правда, мои брюки не испытали тех превращений, что брюки Ивана Богданова. Но психологическая правда, достоверность документа была в богдановском эпизоде с брюками.
Сюжет богдановских брюк в том, что перед свадьбой невеста заказала ему костюм. И костюм был сшит за сутки перед свадьбой, но брюки были сантиметров на десять длиннее. Решили завтра отвезти портному. Мастер жил за несколько десятков километров - день свадьбы был назначен, гости позваны, пироги испечены. Свадьба срывалась из-за этих брюк. Сам-то Богданов согласился явиться на свадьбу и в старом, но невеста и слышать не хотела об этом. Так в спорах и упреках разошлись по домам жених и невеста.
А за ночь произошло следующее. Жена решила исправить ошибку портного самолично и, отрезав на десять сантиметров брюки будущего мужа, радостная, улеглась спать и заснула крепким сном верной жены.
В это время проснулась теща, для которой эта проблема имела то же решение. Теща встала, орудуя сантиметром и мелом, отрезала еще десять сантиметров, прогладила понадежней складки и загиб и заснула крепким сном верной тещи.
Катастрофа была обнаружена самим женихом, у которого брюки были убавлены на двадцать сантиметров и испорчены безнадежно. Пришлось гулять свадьбу в старых, что, собственно, и предлагал жених.
Потом я это все читал не то у Зощенко, не то у Аверченко, не то в каком-то московском Декамероне. Но впервые этот сюжет возникает в моей жизни именно в бараках Черного озера в угольной разведке Дальугля.
У нас освободилось место ночного сторожа - весьма важная проблема, возможность благостного существования на длительный срок.
Сторож был вольнонаемный, вольняшка, а теперь это завидное место.
- Чего же ты не просился на это место? - спросил Иван меня вскоре после этих важных событий.
- Мне не дадут такого места, - сказал я, вспомнив тридцать седьмой и тридцать восьмой годы, когда я на "Партизане" обратился к начальнику КВЧ вольнонаемному Шарову с просьбой дать мне какой-нибудь заработок по писательской части.
- Этикетки к консервным банкам ты и то не будешь у нас писать! - радостно возгласил начальник КВЧ, живо мне напомнив беседу с товарищем Ежкиным в Вологодском РОНО 1924 года.
Начальник КВЧ Шаров был арестован и расстрелян по берзинскому делу через два месяца после этого разговора, но я себя не воображаю духом из "Тысячи и одной ночи", хотя все, что я видел, превышает воображение персиан, равно как и других наций.
- Мне не дадут такой работы.
- Почему же?
- У меня КРТД.
- Десятки моих знакомых в Магадане, такие же КРТД, получали такую работу.
- Ну, тогда, значит, действует лишение права переписки.
- А что это такое?
Я объяснил Ивану, что в каждое личное дело отправленного на Колыму вложена вкладка типографского шрифта с пустым местом для фамилии и прочих установочных данных: 1) лишить права переписки, 2) использовать исключительно на тяжелых физических работах. Вот этот второй пункт был главный, право переписки по сравнению с этим указанием было пустяком, воздушным шаром. Дальше шли указания: не давать пользоваться аппаратом связи - явная тавтология, если толковать о праве переписки содержащихся в особорежимных условиях.
Последний пункт - каждому начальнику лагерного подразделения извещать о поведении имярек не реже одного раза в квартал.
- Только я не видел такой вкладки. Я ведь смотрел твое дело, я по совместительству еще и завУРЧ нынче.
Потом прошел день, не больше. Я работал в забое, на закопушке на склоне горы, вдоль ручья, на Черном озере. Разводил костер от комаров и не очень следил за тем, чтобы выполнять норму.
Кусты раздвинулись, и к закопушке моей подошел Иван Богданов, сел, закурил, порылся в карманах.
- Это, что ли?
В его руках был один из двух экземпляров пресловутого лишения "права переписки", выдранный из личного дела.
- Конечно, - раздумчиво сказал Иван Богданов, - личное дело составляется в двух экземплярах: один хранится в центральной картотеке УРО, а второй путешествует по всем ОЛПам и их закоулкам вместе с заключенным. Но все-таки ни один местный начальник не будет запрашивать Магадан, есть ли в твоем деле бумажка о лишении права переписки.
Богданов показал мне еще раз бумажку и сжег ее на огне моего маленького костра.
- А теперь подавай заявление о стороже.
Но сторожем меня все же не взяли, а дали эту должность Гордееву, эсперантисту с двадцатилетним сроком по пятьдесят восьмой статье, но стукачу.
Через короткое время Богданов - начальник района, а не бухгалтер - был снят за пьянство, и место его занял инженер Виктор Плуталов, впервые организовавший работу в нашей угольной разведке по-деловому, по-инженерному, по-строительному.
Если правление Парамонова знаменовалось хищениями, а правление Богданова - преследованием врагов народа и беспробудным пьянством, то Плуталов впервые показал, что такое фронт работы - не донос, а именно фронт работы, количество кубометров, которое каждый может выкопать, если работает и в ненормальных колымских условиях. Мы же знали только унизительность бесперспективного труда, многочасового, бессмысленного.
Впрочем, мы, наверно, ошибались. В нашем подневольном принудительном труде от солнца до солнца - а знающий привычки полярного солнца знает, что это такое, - был скрыт какой-то высокий смысл, государственный смысл именно в бессмысленности труда.
Плуталов пытался показать нам другую сторону нашей же собственной работы. Плуталов был человеком новым - только что приехал с материка.
Любимой его поговоркой было: "Я ведь не работник НКВД".
К сожалению, наша разведка угля не нашла, и район наш закрыли. Часть людей отправили на Хету (где тогда дневалил Анатолий Гидаш) - Хета в семи километрах от нас, - а часть на Аркагалу, в шахту Аркагалинского угольного района. На Аркагалу уехал и я, и уже через год, гриппуя в бараке и боясь попросить освобождения у Сергея Михайловича Лунина, покровителя лишь блатарей и тех, кому благоволит начальство, я перемогался, ходил в шахту, переносил грипп на ногах.
Страницы
предыдущая целиком следующая