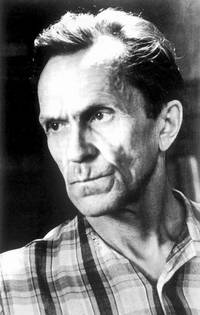Он спал, конечно, на верхних нарах - внизу был ледяной погреб, и те, чьи места были внизу, половину ночи простаивали у печки, обнимая ее по очереди руками, - печка была чуть теплая. Дров вечно не хватало: за дровами надо было идти за четыре километра после работы, все и всячески уклонялись от этой повинности. Вверху было теплее, хотя, конечно же, спали в том, в чем работали, - в шапках, телогрейках, бушлатах, ватных брюках. Вверху было теплее, но и там за ночь волосы примерзали к подушке.
Поташников чувствовал, как с каждым днем сил становилось все меньше и меньше. Ему, тридцатилетнему мужчине, уже трудно взбираться на верхние нары, трудно спускаться. Сосед его умер вчера, просто умер, не проснулся, и никто не интересовался, отчего он умер, как будто причина смерти была лишь одна, хорошо известная всем. Дневальный радовался, что смерть произошла не вечером, а утром - суточное довольствие умершего оставалось дневальному. Все это понимали, и Поташников осмелел и подошел к дневальному: "Отломи корочку", - но тот встретил его такой крепкой руганью, какой может ругаться только человек, ставший из слабого сильным и знающий, что его ругань безнаказанна. Только при чрезвычайных обстоятельствах слабый ругает сильного, и это - смелость отчаяния. Поташников замолчал и отошел.
Надо было на что-то решаться, что-то выдумывать своим ослабевшим мозгом. Или - умереть. Смерти Поташников не боялся. Но было тайное страстное желание, какое-то последнее упрямство - желание умереть где-нибудь в больнице, на койке, на постели, при внимании других людей, пусть казенном внимании, но не на улице, не на морозе, не под сапогами конвоя, не в бараке среди брани, грязи и при полном равнодушии всех. Он не винил людей за равнодушие. Он понял давно, откуда эта душевная тупость, душевный холод. Мороз, тот самый, который обращал в лед слюну на лету, добрался и до человеческой души. Если могли промерзнуть кости, мог промерзнуть и отупеть мозг, могла промерзнуть и душа. На морозе нельзя было думать ни о чем. Все было просто. В холод и голод мозг снабжался питанием плохо, клетки мозга сохли - это был явный материальный процесс, и бог его знает, был ли этот процесс обратимым, как говорят в медицине, подобно отморожению, или разрушения были навечны. Так и душа - она промерзла, сжалась и, может быть, навсегда останется холодной. Все эти мысли были у Поташникова раньше - теперь не оставалось ничего, кроме желания перетерпеть, переждать мороз живым.
Нужно было, конечно, раньше искать каких-то путей спасения. Таких путей было не много. Можно было стать бригадиром или смотрителем, вообще держаться около начальства. Или около кухни. Но на кухню были сотни конкурентов, а от бригадирства Поташников отказался еще год назад, дав себе слово не позволять насиловать чужую человеческую волю здесь. Даже ради собственной жизни он не хотел, чтобы умиравшие товарищи бросали в него свои предсмертные проклятия. Поташников ждал смерти со дня на день, и день, кажется, подошел.
Проглотив миску теплого супа, дожевывая хлеб, Поташников добрался до места работы, едва волоча ноги. Бригада была выстроена перед началом работы, и вдоль рядов ходил какой-то толстый краснорожий человек в оленьей шапке, якутских торбасах и в белом полушубке. Он вглядывался в изможденные, грязные, равнодушные лица рабочих. Люди молча топтались на месте, ожидая конца неожиданной задержки. Бригадир стоял тут же, почтительно говоря что-то человеку в оленьей шапке:
- А я вас уверяю, Александр Евгеньевич, что у меня нет таких людей. К Соболеву и бытовичкам сходите, а это ведь интеллигенция, Александр Евгеньевич, - одно мученье.
Человек в оленьей шапке перестал разглядывать людей и повернулся к бригадиру.
- Бригадиры не знают своих людей, не хотят знать, не хотят нам помочь, - хрипло сказал он.
- Воля ваша, Александр Евгеньевич.
- Вот я тебе сейчас покажу. Как твоя фамилия?
- Иванов моя фамилия, Александр Евгеньевич.
- Вот, гляди. Эй, ребята, внимание. - Человек в оленьей шапке встал перед бригадой. - Управлению нужны плотники - делать короба для возки грунта.
Все молчали.
- Вот видите, Александр Евгеньевич, - зашептал бригадир.
Поташников вдруг услышал свой собственный голос:
- Есть. Я плотник. - И сделал шаг вперед.
С правого фланга молча шагнул другой человек. Поташников знал его - это был Григорьев.
- Ну, - человек в оленьей шапке повернулся к бригадиру, - ты шляпа и дерьмо. Ребята, пошли за мной.
Поташников и Григорьев поплелись за человеком в оленьей шапке. Он приостановился.
- Если так будем идти, - прохрипел он, - мы и к обеду не придем. Вот что. Я пойду вперед, а вы приходите в столярную мастерскую к прорабу Сергееву. Знаете, где столярная мастерская?
- Знаем, знаем! - закричал Григорьев. - Угостите закурить, пожалуйста.
- Знакомая просьба, - сквозь зубы пробормотал человек в оленьей шапке и, не вынимая коробки из кармана, вытащил две папиросы.
Поташников шел впереди и напряженно думал. Сегодня он будет в тепле столярной мастерской - точить топор и делать топорище. И точить пилу. Торопиться не надо. До обеда они будут получать инструмент, выписывать, искать кладовщика. А сегодня к вечеру, когда выяснится, что он топорище сделать не может, а пилу развести не умеет, его выгонят, и завтра он вернется в бригаду. Но сегодня он будет в тепле. А может быть, и завтра, и послезавтра он будет плотником, если Григорьев - плотник. Он будет подручным у Григорьева. Зима уже кончается. Лето, короткое лето он как-нибудь проживет.
Поташников остановился, ожидая Григорьева.
- Ты можешь это... плотничать? - задыхаясь от внезапной надежды, выговорил он.
- Я, видишь ли, - весело сказал Григорьев, - аспирант Московского филологического института. Я думаю, что каждый человек, имеющий высшее образование, тем более гуманитарное, обязан уметь вытесать топорище и развести пилу. Тем более если это надо делать рядом с горячей печкой.
- Значит, и ты...
- Ничего не значит. На два дня мы их обманем, а потом - какое тебе дело, что будет потом.
- Мы обманем на один день. Завтра нас вернут в бригаду.
- Нет. За один день нас не успеют перевести по учету в столярную мастерскую. Надо ведь подавать сведения, списки. Потом опять отчислять...
Вдвоем они едва отворили примерзшую дверь. Посредине столярной мастерской горела раскаленная докрасна железная печка, и пять столяров на своих верстаках работали без телогреек и шапок. Пришедшие встали на колени перед открытой дверцей печки, перед богом огня, одним из первых богов человечества. Скинув рукавицы, они простерли руки к теплу, совали их прямо в огонь. Многократно отмороженные пальцы, потерявшие чувствительность, не сразу ощутили тепло. Через минуту Григорьев и Поташников сняли шапки и расстегнули бушлаты, не вставая с колен.
- Вы зачем? - недружелюбно спросил их столяр.
- Мы плотники. Будем работать тут, - сказал Григорьев.
- По распоряжению Александра Евгеньевича, - добавил поспешно Поташников.
- Это, значит, о вас говорил прораб, чтобы выдать вам топоры, - сказал Арнштрем, пожилой инструментальщик, стругавший в углу черенки к лопатам.
- О нас, о нас...
- Берите, - недоверчиво оглядев их, сказал Арнштрем. - Вот вам два топора, пила и разводка. Разводку потом назад отдайте. Вот мой топор, вытешьте топорище.
Арнштрем улыбнулся.
- Дневная норма мне на топорища - тридцать штук, - сказал он.
Григорьев взял чурку из рук Арнштрема и начал тесать. Загудел обеденный гудок. Арнштрем, не одеваясь, молча смотрел на работу Григорьева.
- Теперь ты, - сказал он Поташникову.
Поташников поставил полено на чурбан, взял топор из рук Григорьева и начал тесать.
- Хватит, - сказал Арнштрем.
Столяры уже ушли обедать, и в мастерской никого, кроме трех людей, не было.
- Возьмите вот два моих топорища, - Арнштрем подал готовые топорища Григорьеву, - и насадите топоры. Точите пилу. Сегодня и завтра грейтесь у печки. Послезавтра идите туда, откуда пришли. Вот вам кусок хлеба к обеду.
Сегодня и завтра они грелись у печки, а послезавтра мороз упал сразу до тридцати градусов - зима уже кончалась.
1954
Одиночный замер
Вечером, сматывая рулетку, смотритель сказал, что Дугаев получит на следующий день одиночный замер. Бригадир, стоявший рядом и просивший смотрителя дать в долг "десяток кубиков до послезавтра", внезапно замолчал и стал глядеть на замерцавшую за гребнем сопки вечернюю звезду. Баранов, напарник Дугаева, помогавший смотрителю замерять сделанную работу, взял лопату и стал подчищать давно вычищенный забой.
Дугаеву было двадцать три года, и все, что он здесь видел и слышал, больше удивляло, чем пугало его.
Бригада собралась на перекличку, сдала инструмент и в арестантском неровном строю вернулась в барак. Трудный день был кончен. С головой Дугаев, не садясь, выпил через борт миски порцию жидкого холодного крупяного супа. Хлеб выдавался утром на весь день и был давно съеден. Хотелось курить. Он огляделся, соображая, у кого бы выпросить окурок. На подоконнике Баранов собирал в бумажку махорочные крупинки из вывернутого кисета. Собрав их тщательно, Баранов свернул тоненькую папироску и протянул ее Дугаеву.
- Кури, мне оставишь, - предложил он. Дугаев удивился - они с Барановым не были дружны. Впрочем, при голоде, холоде и бессоннице никакая дружба не завязывается, и Дугаев, несмотря на молодость, понимал всю фальшивость поговорки о дружбе, проверяемой несчастьем и бедою. Для того чтобы дружба была дружбой, нужно, чтобы крепкое основание ее было заложено тогда, когда условия, быт еще не дошли до последней границы, за которой уже ничего человеческого нет в человеке, а есть только недоверие, злоба и ложь. Дугаев хорошо помнил северную поговорку, три арестантские заповеди: не верь, не бойся и не проси...
Дугаев жадно всосал сладкий махорочный дым, и голова его закружилась.
- Слабею, - сказал он.
Баранов промолчал.
Дугаев вернулся в барак, лег и закрыл глаза. Последнее время он спал плохо, голод не давал хорошо спать. Сны снились особенно мучительные - буханки хлеба, дымящиеся жирные супы... Забытье наступало не скоро, но все же за полчаса до подъема Дугаев уже открыл глаза.
Бригада пришла на работу. Все разошлись по своим забоям.
- А ты подожди, - сказал бригадир Дугаеву. - Тебя смотритель поставит.
Дугаев сел на землю. Он уже успел утомиться настолько, чтобы с полным безразличием отнестись к любой перемене в своей судьбе.
Загремели первые тачки на трапе, заскрежетали лопаты о камень.
- Иди сюда, - сказал Дугаеву смотритель. - Вот тебе место. - Он вымерил кубатуру забоя и поставил метку - кусок кварца. - Досюда, - сказал он. - Траповщик тебе доску до главного трапа дотянет. Возить туда, куда и все. Вот тебе лопата, кайло, лом, тачка - вози.
Дугаев послушно начал работу.
"Еще лучше", - думал он. Никто из товарищей не будет ворчать, что он работает плохо. Бывшие хлеборобы не обязаны понимать и знать, что Дугаев новичок, что сразу после школы он стал учиться в университете, а университетскую скамью променял на этот забой. Каждый за себя. Они не обязаны, не должны понимать, что он истощен и голоден уже давно, что он не умеет красть: уменье красть - это главная северная добродетель во всех ее видах, начиная от хлеба товарища и кончая выпиской тысячных премий начальству за несуществующие, небывшие достижения. Никому нет дела до того, что Дугаев не может выдержать шестнадцатичасового рабочего дня.
Дугаев возил, кайлил, сыпал, опять возил и опять кайлил и сыпал.
После обеденного перерыва пришел смотритель, поглядел на сделанное Дугаевым и молча ушел... Дугаев опять кайлил и сыпал. До кварцевой метки было еще очень далеко.
Вечером смотритель снова явился и размотал рулетку. Он смерил то, что сделал Дугаев.
- Двадцать пять процентов, - сказал он и посмотрел на Дугаева. - Двадцать пять процентов. Ты слышишь?
- Слышу, - сказал Дугаев. Его удивила эта цифра. Работа была так тяжела, так мало камня подцеплялось лопатой, так тяжело было кайлить. Цифра - двадцать пять процентов нормы - показалась Дугаеву очень большой. Ныли икры, от упора на тачку нестерпимо болели руки, плечи, голова. Чувство голода давно покинуло его.
Дугаев ел потому, что видел, как едят другие, что-то подсказывало ему: надо есть. Но он не хотел есть.
- Ну, что ж, - сказал смотритель, уходя. - Желаю здравствовать.
Вечером Дугаева вызвали к следователю. Он ответил на четыре вопроса: имя, фамилия, статья, срок. Четыре вопроса, которые по тридцать раз в день задают арестанту. Потом Дугаев пошел спать. На следующий день он опять работал с бригадой, с Барановым, а в ночь на послезавтра его повели солдаты за конбазу, и повели по лесной тропке к месту, где, почти перегораживая небольшое ущелье, стоял высокий забор с колючей проволокой, натянутой поверху, и откуда по ночам доносилось отдаленное стрекотание тракторов. И, поняв, в чем дело, Дугаев пожалел, что напрасно проработал, напрасно промучился этот последний сегодняшний день.
1955
Посылка
Посылки выдавали на вахте. Бригадиры удостоверяли личность получателя. Фанера ломалась и трещала по-своему, по-фанерному. Здешние деревья ломались не так, кричали не таким голосом. За барьером из скамеек люди с чистыми руками в чересчур аккуратной военной форме вскрывали, проверяли, встряхивали, выдавали. Ящики посылок, едва живые от многомесячного путешествия, подброшенные умело, падали на пол, раскалывались. Куски сахара, сушеные фрукты, загнивший лук, мятые пачки махорки разлетались по полу. Никто не подбирал рассыпанное. Хозяева посылок не протестовали - получить посылку было чудом из чудес.
Возле вахты стояли конвоиры с винтовками в руках - в белом морозном тумане двигались какие-то незнакомые фигуры.
Я стоял у стены и ждал очереди. Вот эти голубые куски - это не лед! Это сахар! Сахар! Сахар! Пройдет еще час, и я буду держать в руках эти куски, и они не будут таять. Они будут таять только во рту. Такого большого куска мне хватит на два раза, на три раза.
А махорка! Собственная махорка! Материковская махорка, ярославская "Белка" или "Кременчуг № 2". Я буду курить, буду угощать всех, всех, всех, а прежде всего тех, у кого я докуривал весь этот год. Материковская махорка! Нам ведь давали в пайке табак, снятый по срокам хранения с армейских складов, - авантюра гигантских масштабов: на лагерь списывались все продукты, что вылежали сроки хранения. Но сейчас я буду курить настоящую махорку. Ведь если жена не знает, что нужна махорка покрепче, ей подскажут.
- Фамилия?
Посылка треснула, и из ящика высыпался чернослив, кожаные ягоды чернослива. А где же сахар? Да и чернослива - две-три горсти...
- Тебе бурки! Летчицкие бурки! Ха-ха-ха! С каучуковой подошвой! Ха-ха-ха! Как у начальника прииска! Держи, принимай!
Я стоял растерянный. Зачем мне бурки? В бурках здесь можно ходить только по праздникам - праздников-то и не было. Если бы оленьи пимы, торбаса или обыкновенные валенки. Бурки - это чересчур шикарно... Это не подобает. Притом...
- Слышь ты... - Чья-то рука тронула мое плечо. Я повернулся так, чтобы было видно и бурки, и ящик, на дне которого было немного чернослива, и начальство, и лицо того человека, который держал мое плечо. Это был Андрей Бойко, наш горный смотритель. А Бойко шептал торопливо:
- Продай мне эти бурки. Я тебе денег дам. Сто рублей. Ты ведь до барака не донесешь - отнимут, вырвут эти. - И Бойко ткнул пальцем в белый туман. - Да и в бараке украдут. В первую ночь.
"Сам же ты и подошлешь", - подумал я.
- Ладно, давай деньги.
- Видишь, какой я! - Бойко отсчитывал деньги. - Не обманываю тебя, не как другие. Сказал сто - и даю сто. - Бойко боялся, что переплатил лишнего.
Я сложил грязные бумажки вчетверо, ввосьмеро и упрятал в брючный карман. Чернослив пересыпал из ящика в бушлат - карманы его давно были вырваны на кисеты.
Куплю масла! Килограмм масла! И буду есть с хлебом, супом, кашей. И сахару! И сумку достану у кого-нибудь - торбочку с бечевочным шнурком. Непременная принадлежность всякого приличного заключенного из фраеров. Блатные не ходят с торбочками.
Я вернулся в барак. Все лежали на нарах, только Ефремов сидел, положив руки на остывшую печку, и тянулся лицом к исчезающему теплу, боясь разогнуться, оторваться от печки.
- Что же не растопляешь?
Подошел дневальный.
- Ефремовское дежурство! Бригадир сказал: пусть где хочет, там и берет, а чтоб дрова были. Я тебе спать все равно не дам. Иди, пока не поздно.
Ефремов выскользнул в дверь барака.
- Где ж твоя посылка?
- Ошиблись...
Я побежал к магазину. Шапаренко, завмаг, еще торговал. В магазине никого не было.
- Шапаренко, мне хлеба и масла.
- Угробишь ты меня.
Страницы
предыдущая целиком следующая