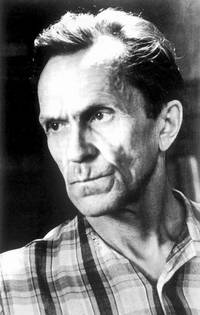Труп Анны Павловны положили в кошевку и двинулись в поселок, к дому начальника прииска. С Андреевым туда пошли не все - многие бросились скорей в барак, к супу.
Долго не отпирал начальник, разглядев сквозь стекло толпу арестантов, собравшихся у дверей его дома. Наконец Андрееву удалось объяснить, в чем дело, и он, вместе со связанным Штеменко и двумя заключенными, вошел в дом.
Обедали мы в эту ночь очень долго. Андреева водили куда-то давать показания. Но потом он пришел, скомандовал, и мы пошли на работу.
Штеменко вскоре осудили на десять лет за убийство из ревности. Наказание было минимальным. Судили его на нашем же прииске и после приговора куда-то увезли. Бывших лагерных начальников в таких случаях содержат где-то особо - никто никогда не встречал их в обыкновенных лагерях.
1956
Тетя Поля
Тетя Поля умерла в больнице от рака желудка в возрасте пятидесяти двух лет. Вскрытие подтвердило диагноз лечащего врача. Впрочем, в нашей больнице патологоанатомический диагноз редко расходился с клиническим - так бывает в самых лучших и самых плохих больницах.
Фамилию тети Поли знали только в конторе. Не помнила подлинной фамилии даже жена начальника, у которого тетя Поля семь лет была "дневальной", то есть прислугой.
Все знают, кто такой дневальный или дневальная, но не все знают, кем они могут быть. Доверенное лицо недоступного властителя тысяч человеческих судеб; свидетель его слабостей, его темных сторон. Человек, знающий теневые стороны дома. Раб, но и непременный участник подводной, подземной квартирной войны; участник или, по крайней мере, наблюдатель домашних сражений. Негласный арбитр в ссорах мужа и жены. Ведущий хозяйство семьи начальника, умножающий его богатство, и не только экономией и честностью. Один такой дневальный торговал в пользу начальника махорочными папиросами, продавая их заключенным по десять рублей папироса. Лагерная палата мер и весов установила, что в спичечную коробку входит махорки на восемь папирос, а восьмушка махорки состоит из восьми таких спичечных коробочек. Эти меры сыпучих тел действуют на 1/8 территории Советского Союза - во всей Восточной Сибири.
Наш дневальный выручал за каждую пачку махорки шестьсот сорок рублей. Но и эта цифра не была, как говорится, пределом. Можно было насыпать неполные коробочки - разница на взгляд почти незаметна, да и ссориться с дневальным начальника никто не захочет. Можно было вертеть более тонкие папиросы. Вся закрутка - дело рук и совести дневального. Наш дневальный скупал у начальника махорку по пятьсот рублей за пачку. Стосорокарублевая разница шла в карман дневального.
Хозяин тети Поли махоркой не торговал, и вообще никакими темными делами тете Поле у него заниматься не приходилось. Тетя Поля была великая стряпуха, а дневальные, сведущие в кулинарии, ценились особенно дорого. Тетя Поля могла взяться - и действительно бралась - устроить кого-либо из земляков-украинцев на легкую работу или включить в какой-нибудь список на освобождение. Помощь тети Поли своим землякам была весьма серьезной. Другим она не помогала, разве только советом.
Тетя Поля работала у начальника седьмой год и думала, что и все свои десять "рокив" проживет безбедно.
Тетя Поля была расчетливой бессребреницей и справедливо полагала, что ее равнодушие к подаркам, к деньгам не может не прийтись по душе любому начальнику. Расчеты ее оправдались. Она была своим человеком в семье начальника, и уже был намечен план ее освобождения - она должна была числиться грузчицей автомашины на прииске, где работал брат начальника, и прииск ходатайствовал бы о ее освобождении.
Но тетя Поля заболела, ей становилось все хуже, и ее отвезли в больницу. Главный врач распорядился, чтобы тете Поле отвели отдельную палату. Десять полутрупов вытащили в холодный коридор, чтобы освободить место дневальной начальника.
Больница оживилась. Ежедневно во второй половине дня приезжали "виллисы", приезжали грузовики; из кабин выходили дамы в тулупах, выходили военные - все стремились к тете Поле. И тетя Поля обещала каждому: если выздоровеет - замолвит словечко начальнику.
Каждое воскресенье лимузин ЗИС-110 въезжал в больничные ворота - тете Поле везли посылочку, записочку от жены начальника.
Тетя Поля отдавала все санитаркам, попробует ложечку и отдаст. Болезнь свою она знала.
Но выздороветь тетя Поля не могла. И вот однажды в больницу явился с запиской начальника необычайный посетитель - отец Петр, как он назвал себя нарядчику. Оказывается, тетя Поля желала исповедаться.
Необычайный посетитель был Петька Абрамов. Его все знали. Он даже лежал в этой больнице несколько месяцев назад. А сейчас это был отец Петр.
Визит преподобного взволновал всю больницу. Оказывается, в наших краях есть священники! И они исповедуют желающих! В самой большой палате больничной - палате номер два, где между обедом и ужином ежедневно рассказывался кем-либо из больных гастрономический рассказ, во всяком случае, не для улучшения аппетита, а из-за потребности голодного человека в возбуждении пищевых эмоций, - в этой палате говорили только об исповеди тети Поли.
Отец Петр был в кепке, в бушлате. Ватные его брюки заправлены в кирзовые старенькие сапоги. Волосы были острижены коротко - для лица духовного звания гораздо короче, чем волосы стиляг пятидесятых годов. Отец Петр расстегнул бушлат и телогрейку - стала видна голубая косоворотка и большой наперсный крест. Это был не простой крест, а распятие - только самодельное, выточенное умелой рукой, но без необходимых инструментов.
Отец Петр исповедал тетю Полю и ушел. Он долго стоял на шоссе, поднимая руки, когда приближались грузовики. Две машины прошли не останавливаясь. Тогда отец Петр вынул из-за пазухи готовую, свернутую папиросу, поднял ее над головой, и первая же машина затормозила, шофер гостеприимно открыл дверцу кабины.
Тетя Поля умерла, и похоронили ее на больничном кладбище. Это было большое кладбище под горой (вместо "умереть" больные говорили "попасть под сопку") с братскими могилами "А", "Б", "В" и "Г", несколькими хордообразными линиями могил-одиночек. Ни начальника, ни его супруги, ни отца Петра не было на похоронах тети Поли. Обряд похорон был обычным: нарядчик навязал на левую голень тети Поли деревянную бирку с номером. Это был номер личного дела. По инструкции номер должен быть написан простым черным карандашом, а отнюдь не химическим, как и на лесных топографических реперах-затесах.
Привычные могильщики-санитары закидали камнями сухонькое тело тети Поли. Нарядчик укрепил в камнях палочку - опять с тем же номером личного дела.
Прошло несколько дней, и в больницу явился отец Петр. Он уже побывал на кладбище и сейчас гремел в конторе:
- Крест надо поставить. Крест.
- Еще чего, - ответил нарядчик.
Ругались они долго. Наконец отец Петр объявил:
- Даю вам неделю срока. Если за эту неделю крест не будет поставлен, буду жаловаться на вас начальнику управления. Тот не поможет - буду писать начальнику Дальстроя. Тот откажет - буду жаловаться на него в Совнарком. Совнарком откажет - в Синод напишу, - орал отец Петр.
Нарядчик был старым арестантом и хорошо знал "страну чудес": он знал, что там могут случаться самые неожиданные вещи. И, подумав, он решил доложить обо всей истории главному врачу.
Главный врач, когда-то бывший не то министром, не то заместителем министра, посоветовал не спорить и поставить крест на могиле тети Поли.
- Если поп так уверенно говорит, значит, тут что-то есть. Он что-то знает. Все может быть, все может быть, - бормотал бывший министр.
Поставили крест, первый крест на этом кладбище. Его было далеко видно. И хотя он был единственным, все это место приняло настоящий кладбищенский вид. Все ходячие больные ходили смотреть на этот крест. И досочка была прибита с надписью в траурной рамке. Сделать надпись поручили старику художнику, который уже второй год лежал в больнице. Он, собственно, не лежал, а только числился на койке, а все свое время тратил на массовое производство трех видов копий: "Золотая осень", "Три богатыря" и "Смерть Иоанна Грозного". Художник клялся, что может писать эти копии с закрытыми глазами. Заказчиками его было все поселковое и больничное начальство.
Но досочку на крест тети Поли художник согласился сделать. Он спросил, что надо писать. Нарядчик порылся в своих списках.
- Ничего не нахожу, кроме инициалов, - сказал он. - Тимошенко П. И. Пиши: Полина Ивановна. Умерла такого-то числа.
Художник, никогда с заказчиками не споривший, так и написал. А ровно через неделю явился Петька Абрамов, то есть отец Петр. Он сказал, что тетю Полю зовут не Полина, а Прасковья, и не Ивановна, а Ильинична. Он сообщил дату ее рождения и потребовал вставить ее в могильную надпись. Надпись исправили в присутствии отца Петра.
1958
Галстук
Как рассказать об этом проклятом галстуке?
Это правда особого рода, это правда действительности. Но это не очерк, а рассказ. Как мне сделать его вещью прозы будущего - чем-либо вроде рассказов Сент-Экзюпери, открывшего нам воздух.
В прошлом и настоящем для успеха необходимо, чтобы писатель был кем-то вроде иностранца в той стране, о которой он пишет. Чтобы он писал с точки зрения людей, - их интересов, кругозора, - среди которых он вырос и приобрел привычки, вкусы, взгляды. Писатель пишет на языке тех, от имени которых он говорит. И не больше. Если же писатель знает материал слишком хорошо, те, для кого он пишет, не поймут писателя. Писатель изменил, перешел на сторону своего материала.
Не надо знать материал слишком. Таковы все писатели прошлого и настоящего, но проза будущего требует другого. Заговорят не писатели, а люди профессии, обладающие писательским даром. И они расскажут только о том, что знают, видели. Достоверность - вот сила литературы будущего.
А может быть, рассуждения здесь ни к чему и самое главное - постараться вспомнить, во всем вспомнить Марусю Крюкову, хромую девушку, которая травилась вероналом, скопила несколько блестящих крошечных желтеньких яйцеобразных таблеток и проглотила их. Веронал она выменяла на хлеб, на кашу, на порцию селедки у соседок по палате, коим был прописан веронал. Фельдшера знали о торговле вероналом и заставляли больных глотать таблетку на глазах, но корочка у таблетки была жесткая, и обычно больным удавалось заложить веронал за щеку или под язык и после ухода фельдшера выплюнуть на собственную ладонь.
Маруся Крюкова не рассчитала дозы. Она не умерла, ее просто вырвало, и после оказанной помощи - промывания желудка - Марусю выписали на пересылку. Но все это было много позже истории с галстуком.
Маруся Крюкова приехала из Японии в конце тридцатых годов. Дочь эмигранта, жившего на окраине Киото, Маруся с братом вступила в союз "Возвращение в Россию", связалась с советским посольством и в 1939 году получила въездную русскую визу. Во Владивостоке Маруся была арестована вместе со своими товарищами и с братом, увезена в Москву и больше никогда никого из друзей своих не встречала.
На следствии Марусе сломали ногу и, когда кость срослась, увезли на Колыму - отбывать двадцатипятилетний срок заключения. Маруся была великая рукодельница, мастерица вышивки - на эти вышивки и жила Марусина семья в Киото.
На Колыме это уменье Маруси обнаружили начальники сразу. Ей никогда не платили за вышивки: либо принесут кусок хлеба, два куска сахару, папиросы, - Маруся, впрочем, не научилась курить. И ручная вышивка чудной работы стоимостью в несколько сотен рублей оставалась в руках начальства.
Услышав о способностях заключенной Крюковой, начальница санчасти положила Марусю в больницу, и с этого времени Маруся вышивала врачихе.
Когда пришла телефонограмма в совхоз, где Маруся работала, чтобы всех мастериц-рукодельниц направить попутной машиной в распоряжение ..., начальник лагеря спрятал Марусю - у жены был большой заказ для мастерицы. Но кто-то немедленно написал высшему начальству донос, и Марусю пришлось отправить. Куда?
Две тысячи километров тянется, вьется центральная колымская трасса - шоссе среди сопок, ущелий, столбики, рельсы, мосты... Рельсов на колымской трассе нет. Но все повторяли и повторяют здесь некрасовскую "Железную дорогу" - зачем сочинять стихи, когда есть вполне пригодный текст. Дорога построена вся от кайла и лопаты, от тачки и бура...
Через каждые четыреста - пятьсот километров на трассе стоит "дом дирекции", сверхроскошный отель люкс, находящийся в личном распоряжении директора Дальстроя, сиречь генерал-губернатора Колымы. Только он, во время своих поездок по вверенному ему краю, может там ночевать. Дорогие ковры, бронза и зеркала. Картины-подлинники - немало имен живописцев первого ранга, вроде Шухаева. Шухаев был на Колыме десять лет. В 1957 году на Кузнецком мосту была выставка его работ, его книга жизни. Она началась светлыми пейзажами Бельгии и Франции, автопортретом в золотом камзоле Арлекина. Потом магаданский период: два небольших портрета маслом - портрет жены и автопортрет в мрачной темно-коричневой гамме, две работы за десять лет. На портретах - люди, увидевшие страшное. Кроме этих двух портретов - эскизы театральных декораций.
После войны Шухаева освобождают. Он едет в Тбилиси - на юг, на юг, унося ненависть к Северу. Он сломлен. Он пишет картину "Клятва Сталина в Гори" - подхалимскую. Он сломлен. Портреты ударников, передовиков производства. "Дама в золотом платье". Меры блеска в портрете этом нет - кажется, художник заставляет себя забыть о скупости северной палитры. И все. Можно умирать.
Для "дома дирекции" художники писали и копии:
"Иван Грозный убивает своего сына", шишкинское "Утро в лесу". Эти две картины - классика халтуры.
Но самое удивительное там были вышивки. Шелковые занавеси, шторы, портьеры были украшены ручной вышивкой. Коврики, накидки, полотенца - любая тряпка становилась драгоценной после того, как побывала в руках заключенных мастериц.
Директор Дальстроя ночевал в своих "домах" - их было несколько на трассе - два-три раза в год. Все остальное время его ждали сторож, завхоз, повар и заведующий "домом", четыре человека из вольнонаемных, получающих процентные надбавки за работу на Крайнем Севере, ждали, готовились, топили печи зимой, проветривали "дом".
Вышивать занавеси, накидки и все, что задумают, привезли сюда Машу Крюкову. Были еще две мастерицы, равные Маше по уменью и выдумке. Россия - страна проверок, страна контроля. Мечта каждого доброго россиянина - и заключенного, и вольнонаемного, - чтобы его поставили что-нибудь, кого-нибудь проверять. Во-первых: я над кем-то командир. Во-вторых: мне оказано доверие. В-третьих: за такую работу я меньше отвечаю, чем за прямой труд. А в-четвертых: помните атаку "В окопах Сталинграда" Некрасова.
Над Машей и ее новыми знакомыми были поставлена женщина, член партии, выдававшая ежедневно мастерицам материал и нитки. К концу рабочего дня она отбирала работу и проверяла сделанное. Женщина эта не работала, а проходила по штатам центральной больницы как старшая операционная сестра. Она караулила тщательно, уверенная в том, что только отвернись - и кусок тяжелого синего шелка исчезнет.
Мастерицы привыкли давно к такой охране. И хотя обмануть эту женщину не составило бы, верно, труда, они не воровали. Все трое были осуждены по пятьдесят восьмой статье.
Мастериц поместили в лагере, в зоне, на воротах которой, как на всех лагерных зонах Союза, были начертаны незабываемые слова: "Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства". И фамилия автора цитаты... Цитата звучала иронически, удивительно подходя к смыслу, к содержанию слова "труд" в лагере. Труд был чем угодно, только не делом славы. В 1906 году издательством, в котором участвовали эсеры, была выпущена книжка "Полное собрание речей Николая II". Это были перепечатки из "Правительственного вестника" в момент коронации царя и состояли из заздравных тостов: "Пью за здоровье Кексгольмского полка", "Пью за здоровье молодцов-черниговцев".
Заздравным тостам было предпослано предисловие, выдержанное в ура-патриотических тонах: "В этих словах как в капле воды отражается вся мудрость нашего великого монарха", - и т. д.
Составители сборника были сосланы в Сибирь.
Что было с людьми, поднявшими цитату о труде на ворота лагерных зон всего Советского Союза?..
За отличное поведение и успешное выполнение плана мастерицам разрешали смотреть кино во время сеансов для заключенных.
Сеансы для вольнонаемных немного по своим порядкам отличались от кино для заключенных.
Киноаппарат был один - между частями были перерывы.
Однажды показывали фильм "На всякого мудреца довольно простоты". Кончилась первая часть, зажегся, как всегда, свет и, как всегда, погас, и послышался треск киноаппарата - желтый луч дошел до экрана.
Все затопали, закричали. Механик явно ошибся - показывали снова первую часть. Триста человек: здесь были фронтовики с орденами, заслуженные врачи, приехавшие на конференцию, - все, купившие билеты на этот сеанс для вольнонаемных, кричали, стучали ногами.
Механик не спеша "провернул" первую часть и дал в зал свет. Тогда все поняли, в чем дело. В кино явился заместитель начальника больницы по хозяйственной части Долматов: он опоздал на первую часть, и фильм показывался сначала.
Началась вторая часть, и все пошло как следует. Колымские нравы были известны всем: фронтовикам - меньше, врачам - больше.
Когда билетов продавали мало, сеанс был общим для всех: лучшие места для вольнонаемных - последние ряды, а первые ряды - для заключенных; женщины слева, мужчины справа от прохода. Проход делил зрительный зал крестообразно на четыре части, и это было очень удобно в рассуждении лагерных правил.
Хромая девушка, заметная и на киносеансах, попала в больницу, в женское отделение. Палат маленьких тогда еще не было построено; все отделение было размещено в одной воинской спальне - коек пятьдесят, не меньше. Маруся Крюкова попала на лечение к хирургу.
- А что у нее?
- Остеомиелит, - сказал хирург Валентин Николаевич.
- Пропадет нога?
- Ну, почему пропадет...
Я ходил делать перевязку Крюковой и о ее жизни уже рассказал. Через неделю температура спала, а еще через неделю Марусю выписали.
- Я подарю вам галстук - вам и Валентину Николаевичу. Это будут хорошие галстуки.
- Хорошо, хорошо, Маруся.
Полоска шелка среди десятков метров, сотен метров ткани, расшитой, разукрашенной за несколько смен в "доме дирекции".
- А контроль?
- Я попрошу у нашей Анны Андреевны.
Так, кажется, звали надсмотрщицу.
- Анна Андреевна разрешила. Вышиваю, вышиваю, вышиваю... Не знаю, как и объяснить вам. Вошел Долматов и отобрал.
- Как отобрал?
- Ну, я вышивала. Валентину Николаевичу уже был готов. А ваш - оставалось немного. Серый. Дверь открылась. "Галстуки вышиваете?" Обыскал тумбочку. Сложил галстук в карман и ушел.
- Теперь вас отправят.
- Меня не отправят. Работы еще много. Но мне так хотелось вам галстук...
- Пустяки, Маруся, я бы все равно не носил. Разве продать?
На концерт лагерной самодеятельности Долматов опоздал, как в кино. Грузный, брюхатый не по возрасту, он шел к первой пустой скамейке.
Крюкова поднялась с места и махала руками. Я понял, что это знаки мне.
- Галстук, галстук!
Я успел рассмотреть галстук начальника. Галстук Долматова был серый, узорный, высокого качества.
- Ваш галстук! - кричала Маруся. - Ваш или Валентина Николаевича!
Долматов сел на свою скамейку, занавес распахнулся по-старинному, и концерт самодеятельности начался.
1960
Тайга золотая
Страницы
предыдущая целиком следующая