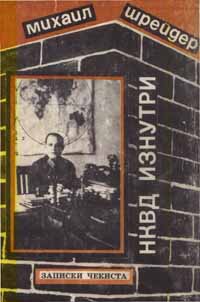— На, подпиши, что тебе объявили, — протягивая мне ручку, сказал Рязанцев и тут же добавил: — Но пока еще в наших силах отменить это постановление. Поэтому давай лучше расскажи мне всю правду.
Растерявшись, я словно окаменел. Мое лицо покрылось холодным потом. Я был не в силах сообразить, что произошло и что мне надо делать. Наконец, собравшись с мыслями и понимая, что в подобной ситуации нужно вести себя достойно, чтобы не дать повода этим подлецам рассказывать обо мне как о трусе, я кое-как подписал, не читая, подсунутую мне бумагу и каким-то чужим, незнакомым мне самому голосом произнес:
— Я ни в чем не виновен... Но, конечно, в вашей власти творить все, что угодно.
— Оденьте наручники, — приказал Рязанцев Кононову. А затем скомандовал мне: — Встать!
С трудом я поднялся на ноги. Цирулев и Кононов подхватили меня под руки. Вперед пошел Рязанцев, за ним Нарейко, в коридоре стояли два брата Павленко. Работая начальником милиции в Иванове, я знал, что братья Павленко являлись исполнителями смертных приговоров, поэтому, увидев их, понял, что меня ведут на расстрел.
Рязанцев, Нарейко и братья Павленко обнажили оружие, и вся наша группа спустилась на нижний этаж, а затем, возле центральной лестницы, в подвальное помещение.
Я как-то обмяк, плохо соображал, чувствовал, что вот-вот потеряю сознание, но делал усилие над собою, чтобы не упасть.
Цирулев и Кононов подтолкнули меня в глубь подвала и поставили лицом к стене.
— Ну, еще не поздно. Будешь говорить? — услышал я глухой, как мне показалось, голос Рязанцева, видимо, искаженный подвальной акустикой.
— Нечего мне говорить! — собрав остатки сил, крикнул я. — Стреляйте, собаки!
Прошло мгновение, раздались выстрелы: один, второй, третий. Было какое-то жуткое понимание, что все кончено, что я уже мертв. Но почему-то я не ощущал боли и не падал. Раздалось еще два выстрела, и снова я не падал и не чувствовал боли. И вдруг в подвале раздался громкий раскатистый смех.
— Ну, что, говнюк, насрал в штаны? — крикнул Нарейко.
Двое из бандитов подошли ко мне, схватили под руки и потащили обратно из подвала.
После всего пережитого ноги у меня подкашивались. Я ни о чем уже не думал, кроме смерти, которая избавила бы меня от всего этого ужаса.
— Иди быстрее, б...юга, — ругались державшие меня под руки. Но я был не в силах передвигать ноги, ставшие ватными.
— Сзади громко смеялись Рязанцев и Нарейко. Через несколько секунд я немного пришел в себя и обернулся:
Ну, бандиты, вам это даром не пройдет!..
Замолчи, сволочь! — подбежав ко мне и сунув к мо ему лицу кулак, зашипел Рязанцев.
Выкрикнув это, я, конечно, ни на секунду не мог подумать, что останусь жив и тем более что смогу отомстить палачам Рязанцеву, Нарейко и другим. Это был крик человека, доведенного до последней степени отчаяния.
Как я попал в камеру, не помню. Когда я очнулся, надо мною стоял тюремный фельдшер-старик, ранее работавший в санчасти милиции. Первое, что я услышал, когда начал приходить в себя, были его слова: «Ну, кажется, все в порядке». Увидев, что я открыл глаза, он тут же повернулся и ушел.
Товарищи по камере, как могли, ухаживали за мною, прикладывали к голове влажные платки, гладили по плечам и рукам, говорили всякие ласковые и успокоительные слова, но только часа через полтора я наконец оправился настолько, что мог рассказать им, что произошло со мною в ту страшную ночь.
Все были потрясены моим рассказом. Священник Лежневского района, добрейший старик, сокрушенно качал головой и бормотал: «Боже мой, Боже мой, как ты допускаешь это, Боже мой! Что же это делается?»
Я понимал, что после сегодняшней инсценировки завтра или послезавтра эти бандиты могут расстрелять меня по-настоящему. Артемьева и Севанюка, обвиняемых в «шпионской» деятельности, также, видимо, расстреляют, и никто никогда не узнает, что я и они были ни в чем не повинны. Старика священника обвиняли в каких-то незначительных антисоветских высказываниях, и я подумал, что он — единственный человек в камере, который имеет шансы сохранить жизнь.
— Знаете, батюшка, о чем я вас попрошу Старик с готовностью пододвинулся ко мне
— Я — коммунист и в Бога не верю, но вижу, что вы честный человек, и, несмотря на различие наших взглядов, мне кажется, что вы не откажетесь исполнить мою пред смертную просьбу. Я знаю, что меня не сегодня-завтра расстреляют, а у меня в Москве остались жена и сын. (Я несколько раз повторил адрес: Большой Кисельный переулок, 5, квартира 3.) Если у вас когда-либо будет возможность, найдите мою семью и передайте им, что я умер честным коммунистом. (Я был в таком полусумасшедшем состоянии, что забыл о том, что у меня не один, а два сына.)
Михаил Павлович, — перекрестившись, торжествен но сказал священник, — если буду жив, крестом клянусь, что выполню вашу последнюю просьбу.
(Летом 1938 года этот замечательный старик священник приехал в Москву, привез моей жене антоновских яблок, запомнив из моих рассказов в камере, что она их очень любит, и рассказал, что сидел со мною вместе в Ивановской тюрьме, что меня, по-видимому, расстреляют и что я ни в чем не виноват.
Увидев в квартире двоих малышей, старик забеспокоился и подумал, не произошла ли ошибка, так как я говорил об одном сыне. Тогда жена показала ему нашу семейную фотографию, на которой он сразу же узнал меня и увидел двоих ребят. Жена была потрясена его рассказом и взволнована тем, что я забыл о том, что у нас есть второй сын. Она испугалась, что у меня помутился разум.)
Пережитый мною кошмар с расстрелом не давал мне покоя. Сутки или двое меня не вызывали на допрос, и я все время думал, что же мне делать дальше. Что предпринять, чтобы поскорее избавиться от физических и моральных пыток? Подтвердить показания, «выбитые» у товарищей? Но какие? Ведь я не знал, кто из них еще жив (за исключением Чангули, которого недавно видел), а кто, может быть, уже расстрелян. Мое подтверждение могло усугубить их судьбу. Послушаться Артемьева и самому выдумать о себе какую-нибудь нелепицу? Но какую? И, кроме того, если сочинять признания о какой-то шпионской организации, то надо назвать хотя бы одного-двух сообщников. А кого же я могу поставить под удар? Ранее расстрелянных, заведомо мертвых?
И тут я впервые стал думать о том, что если умереть, так с музыкой — и потащить за собою под расстрел кого-нибудь из моих палачей и садистов, на совести которых сотни, а может быть, и тысячи ни в чем не повинных людей.
Я стал лихорадочно обдумывать, кого из них смогу «прихватить» с собой. С Рязанцевым я ранее никогда не встречался и никаких подробностей о его прежней жизни не знаю. Цирулев и Кононов — слишком мелкая сошка. Значит — Нарейко. Ведь он работал в Иванове одновременно со мною, и у нас с ним были кое-какие точки соприкосновения по работе. Можно будет что-нибудь придумать...
Ничего не говоря товарищам по камере, я вызвал вахтера и сказал, что хочу признаться в своих преступлениях лично начальнику УНКВД Блинову.
Артемьев и Севанюк, услышав мое заявление, стали расспрашивать, что я задумал и о чем собираюсь говорить, но я не хотел раскрывать им заранее свой план.
— Узнаете после допроса, — пообещал я.
Вскоре меня вызвали и привели в кабинет Блинова, где находился начальник следственной части Рязанцев.
— Гражданин начальник, — обратился я к Блинову,— мне надо поговорить с вами наедине.
— Ну что ж, наедине, так наедине, — довольно снисходительно разрешил Блинов. — Товарищ Рязанцев, вый дите ненадолго в секретариат.
Когда Рязанцев вышел, я, прежде чем привести в исполнение задуманный план, решил воспользоваться тем, что мы с Блиновым остались без свидетелей, и попытаться призвать к его здравому рассудку: он же не мог не понимать, что я ни в чем не виноват. Но Блинов, услышав мои слова, озверел и стал дико ругаться:
— Ах ты, сволочь этакая! Так ты для того меня бес покоил, чтобы я выслушивал твою липу?
Я понял бесполезность своих попыток разумно поговорить с этим фальсификатором и заявил ему:
— Гражданин начальник, я понимаю, что моя борьба с вами в дальнейшем становится бессмысленной, поэтому я решил рассказать вам всю правду о своей вражеской деятельности. Но я опасаюсь, что вы мне не поверите, потому что я был втянут в шпионскую, вражескую организацию человеком, занимающим очень большую должность, фамилию которого я даже боюсь назвать...
Блинов, как по мановению волшебной палочки, из грубого хама превратился в любезного и внимательного собеседника и вдруг стал называть меня на «вы».
Что вы, Михаил Павлович. Вы же сами были крупным работником, и нам отлично известно, какую большую, руководящую роль вы играли в правотроцкистском центре. Поэтому, пожалуйста, рассказывайте обо всем и ничего не бойтесь. Скажите, кто вас вербовал и чью фамилию вы боитесь назвать?
— Я являюсь шпионом и членом правотроцкистской организации, в которую меня завербовал ваш заместитель... Нарейко... — с видом кающегося грешника, опустив голову, сказал я.
— Я так и знал! — торжествующе воскликнул Блинов, не дав мне закончить фразу, от радости хлопнув себя по ляжкам. — Значит, я не ошибался!
В первый момент я был так ошеломлен его готовностью ухватиться за любую провокацию, что на несколько секунд потерял дар речи. Но затем обрадовался, что мой план удается и я смогу отомстить отъявленному палачу Нарейко, а в дальнейшем, возможно, кому-либо еще. И я стал сочинять обстоятельства моей вербовки.
Насколько помню, примерно я рассказал следующее.
Будучи начальником отделения особого отдела, обслуживающего оперативно милицию, Нарейко ежедневно приходил ко мне с докладами о положении в милиции. (Это действительно имело место.) И вот якобы в то время он узнал о моих связях с женщиной, по национальности — немкой, которая работала в немецкой разведке. Придя ко мне с очередным докладом, Нарейко сказал, что ему известно все о моем сотрудничестве с немецкой разведкой, и предъявил мне ультиматум: я должен дать согласие на сотрудничество вместе с ним в японской разведке, в противном случае он меня разоблачит как немецкого шпиона. (Надо сказать, что женщина-немка действительно существовала: она была женой администратора Ивановского народного Дома, но сохраняла немецкое подданство. Кажется, в 1937 году была получена директива НКВД СССР об аннулировании виз всем иностранцам, подданным других государств, проживающим на территории СССР. Эта работа возлагалась на органы милиции, так как нам подчинялось Бюро виз и регистрации иностранцев. И в тех случаях, когда начальник Бюро виз не мог самостоятельно разрешить какой-либо вопрос, он вместе с тем или иным иностранцем приходил на прием ко мне или к моему заместителю. Как-то мне позвонил по телефону художественный руководитель и главный режиссер Ивановского драмтеатра, заслуженный артист республики Курский и попросил меня оставить в Иванове жену администратора театра, по национальности немку. Со слов Курского, она была дочерью антифашиста, томящегося в гитлеровском концлагере, и высылка ее в Германию была равносильна расстрелу. Об этом же меня просил начальник отдела культуры облисполкома Давыдов. Я доложил Стырне, который сказал, что не может нарушать директиву центра, приказал аннулировать ее визу и никаких исключений для нее не делать. Когда после этого немка явилась ко мне и стала просить оставить ее в Советском Союзе, я объяснил ей, что это не в моей власти, и она, как и другие иностранцы, вынуждена была выехать за пределы Советского Союза. Вот эту историю с немкой я и использовал для своей липовой версии о том, как «вербовал» меня Нарейко.)
Блинов предложил мне написать на его имя заявление с моим признанием. Но я, насколько помню, сказал, что очень взволнован, у меня дрожат руки, и поэтому прошу, чтобы текст написал он сам, а я подпишу.
Когда мое «признание» было оформлено Блиновым и подписано мною, Блинов вызвал Рязанцева и сказал ему:
— А мы с вами не ошиблись.
И, обращаясь ко мне, попросил повторить вкратце сказанное мною ему.
Рязанцев, услышав мое сообщение о Нарейко, тоже радостно всплеснул руками и с улыбкой кота, которому под нос сунули горшок со сметаной, начал с восторгом потирать кисти рук.
— Вот это да! Вот это дело! — приговаривал он.
Гражданин Рязанцев, — добавил я для подкрепления своих признаний. — Вы обратили внимание, что Нарейко первым стал меня избивать? Неужели вам не бросилось в глаза, что заместитель начальника УНКВД делает это нарочито, с особым старанием? Ведь если вы меня били, то вам так положено — вы мои следователи, а ведь он прямого отношения к моему делу не имеет. А ларчик открывается просто. Мы заранее договорились, что в случае провала кого-либо из нас оставшийся на свободе будет с целью маскировки особенно озлобленно бить попавшегося.
— Вот б... какая, — выругался в адрес Нарейко Рязанцев. Вся подоплека такой реакции видна была мне как на
ладони. Рязанцев, несомненно, метил на должность заместителя начальника УНКВД и поэтому с такой радостью воспринял мое заявление. (Как я узнал потом, Блинов тоже был очень рад «разоблачению» Нарейко, поскольку последний являлся депутатом Верховного Совета РСФСР и членом бюро обкома партии, а сам Блинов депутатом не был и, естественно, предпочитал иметь своим заместителем не депутата.) Блинов и Рязанцев даже не пытались сообразить, что если бы Нарейко попал под следствие, то я в своей прежней должности начальника милиции не имел бы к этому никакого отношения и не мог бы бить Нарейко на допросах...
От радости, что я наконец подписал заявление о своей вражеской деятельности, Блинов тут же отдал распоряжение Рязанцеву отправить меня «на отдых» и подкормить.
Как только меня водворили обратно в камеру (а это было часов в 10 вечера), вдруг открылась дверь, и вахтер передал мне белый батон, колбасу, сушки и папиросы.
Товарищи по камере, еще ничего не знавшие, были поражены таким роскошеством. Я рассказал им все, что произошло.
Артемьев был настолько взволнован моим рассказом, что обнял меня, стал целовать и плакать.
— Молодец! Умница, Михаил Павлович! — сквозь слезы восклицал он. — Как ты здорово придумал. Угробил такого подлеца и палача! Теперь мы можем спокойно умереть. Но идиоты-то какие? Сразу поверили!
Пользуясь тем, что Калинина от нас забрали, а других стукачей в камере не было, мы с Артемьевым и Севанюком долго еще шепотом на все лады обсуждали случившееся, поражаясь и недоумевая, чем же, в конце концов, руководствуются наши палачи-фальсификаторы: шпиономанией, глупостью, предельной человеческой подлостью или всем, вместе взятым? Верят ли они сами в свои фальсификации или все их слова и действия не что иное, как поза и наигрыш?
Назавтра после моего «признания» меня вызвали к Рязанцеву, который встретил меня, как родного брата.
— Здравствуйте, Михаил Павлович, — с любезной улыбкой приветствовал он меня. — Садитесь, пожалуйста. Как вы себя чувствуете?
Это внезапное превращение палача в любезного и вежливого чиновника было поразительно!
— Ведь правда, у вас теперь стало легче на душе? И нам вы очень, очень помогли, — без умолку болтал Рязанцев. — Мне о вас говорили, что вы крепкий орешек и долго будете отпираться, но уж если решитесь дать показания, то выложите все.
Я молча разглядывал его лицо с маленькими черными усиками и всеми силами пытался скрыть ощущение брезгливости.
— Ну так как, Михаил Павлович, теперь будем писать? — продолжал Рязанцев.
— Пишите, — сказал я.
И вот Рязанцев стал с моей помощью сочинять подробности о том, при каких обстоятельствах Нарейко вербовал меня в правотроцкистскую и шпионскую организацию.
Теперь уже не по ночам, а только днем Рязанцев вызывал меня к себе в кабинет, и мы «работали», то есть я сочинял все новые и новые подробности о моей шпионской деятельности, а по вечерам в камере обдумывал, что можно еще более или менее правдоподобного присочинить, чьи «показания» и в какой части можно подтвердить, чтобы не повредить товарищам, которые еще, возможно, живы.
С самого начала моих «признаний» Рязанцев упорно задавал мне дополнительные вопросы, пытаясь навязать активную роль во всех моих «шпионских» делах Феде Чангули.
Зная приблизительно сущность показаний, выбитых у Феди, которые мне давал читать в Москве следователь Ильицкий, а также то, что он жив и пытается опровергать их, я нарочно давал совершенно противоположные показания, надеясь, что когда-нибудь после нашей смерти люди смогут разобраться во вздорности и нелепости нашего
«дела».
Неужели вы можете поверить, что я, крупнейший шпион и разведчик, буду связываться с таким молокососом и трепачом, как Чангули? — уговаривал я Рязанцева.— Чангули никогда не подозревал, что я являюсь резидентом.
Чангули крупнейший шпион, — убежденно твердил Рязанцев. — И он пытается свалить всю вину на вас, выставляя вас как своего начальника по шпионской деятельности.
Я понимал, что Рязанцев всеми силами пытается озлобить меня против Чангули, давшего на меня показания. Но я уже слишком хорошо знал цену всем этим показаниям.
Через два дня после моего признания у Блинова мой новоиспеченный «друг» Рязанцев предупредил меня, что я должен буду подтвердить свои показания в отношении Нарейко «члену сталинского ЦК, заместителю председателя Верховного Совета РСФСР, первому секретарю Ивановского обкома Седину».
Надеясь использовать эту встречу, чтобы попытаться рассказать партийному руководству о моей и других товарищей невиновности и о страшных методах следствия, я, естественно, дал согласие. Правда, от Артемьева я слышал, что того, кто пытается отказаться от своих показаний в присутствии Седина, снова пытают и заставляют писать заявление Седину о том, что он как «враг народа» хотел обмануть партию. И все же я решил рассказать Седину всю правду.
Днем меня повели в кабинет Блинова, где находились Блинов, Рязанцев, областной прокурор Куник и военный прокурор Шемякин. В кабинете была торжественная обстановка, ждали приезда Седина. Блинов сказал Рязанцеву, чтобы тот пошел к подъезду встретить машину Седина. Но не успел Рязанцев выйти, как распахнулась дверь и вошел человек лет под сорок, плотного телосложения, свежевыбритый, пышащий здоровьем и благополучием. Рязанцев по-холуйски поторопился сыграть роль швейцара и снял с него пальто. На груди у Седина красовался орден Ленина. Поздоровавшись со всеми, Седин уселся напротив меня и спросил:
— Вы Шрейдер? Что же это вы небритый?
— Мой личный парикмахер, видите ли, не знал, что мне предстоит бал, — невесело пошутил я.
— А вам не чужд юмор, — улыбнулся Седин. — Это хорошо!.. Ну, Шрейдер, я читал ваши показания о Нарейко. Ведь речь идет о депутате Верховного Совета и члене обкома. Неужели правда то, что вы показали?
Вместо ответа я судорожным движением расстегнул ворот гимнастерки и сказал:
— Вот смотрите. Я весь избит. Вот незаживающие ра ны от ожогов, пыток и побоев. Я тоже был членом оргбюро обкома и так же баллотировался депутатом в Верховный Совет. Однако меня бьют и пытают вот уже девять месяцев.
И, чтобы избавиться от пыток и скорее умереть, я написал о том, что Нарейко вербовал меня в шпионскую организацию, но все это ложь. Нарейко просто подлец, фальсификатор и палач! За это его и надо судить. Но, конечно, такой дурак не мог быть иностранным шпионом, а тем более не мог вербовать меня, так как я никогда и никаким шпионом не был.
— Что вы мне демонстрируете свои раны, — с гримасой неудовольствия сказал Седин. — Ведь Алексей Максимович Горький сказал: «Если враг не сдается — его уничтожают!»
— Значит, гражданин Седин, вы меня считаете врагом? Но я хочу умереть честным человеком и не желаю подвергаться тем пыткам, которым подвергались после по пытки рассказать вам правду товарищи Артемьев, Шульцев и другие.
Затем я обернулся к прокурорам:
— Здесь кроме вас присутствуют два прокурора. По этому я категорически отказываюсь от показаний, данных мною под пытками, и прошу вас, как члена ЦК партии, вмешаться в мое дело и положить конец произволу, творящемуся в стенах Ивановского НКВД.
— Напрасно, Шрейдер, вы фокусничаете, — вмешался облпрокурор Куник. — То, что Нарейко японский шпион, уже подтвердили многие подследственные. Предупреждаю вас, что вы стали на неверный путь, провоцируя работников Блинова и Рязанцева, которых партия знает как преданных сынов. Что же касается ваших синяков, то мы знаем, что вы сами себе их сделали для демонстрации товарищу Седину. Вы думаете, что нам не сообщили об этом Поэтому давайте так: я как областной прокурор гарантирую вам жизнь, если вы подтвердите данные вами ранее показания. Ну, а если вы будете ломаться и фокусничать, то пеняйте на себя сами
Во время этого разговора Блинов и Рязанцев позеленели, и я каждую минуту ожидал, что вот-вот на меня посыплются удары.
— Ну что же, — убедившись в абсолютной безнадежности моих попыток добиться правды, обратился я к Се дину. — Раз вы вопреки логике и здравому смыслу так уверены, что я враг, то мне ничего не остается делать, как подтвердить ложные показания, данные под пытками. Тем более что я знаю, что меня ждет после вашего ухода. Поэтому полностью подтверждаю данные мною в отношении Нарейко показания и готов подписать их при вас.
Блинов, Рязанцев и прокуроры прямо просияли. От свирепых лиц не осталось и следа. ■
— Вот и правильно, Михаил Павлович, — также смягчившись, сказал Седин. — Лучше умереть, сняв с себя всю правотроцкистскую и шпионскую грязь. Но я подтверждаю слова товарища Куника. Мы будет ходатайствовать о сохранении вам жизни.
Тут же при Седине облпрокурор составил протокол допроса, в котором говорилось, что я подтверждаю данные мною ранее показания. Протокол кроме меня подписали Седин, Куник, военный прокурор, Блинов и Рязанцев.
Когда закончилась эта комедия, Седин обратился к Блинову, кивнув на меня:
— Вы бы побрили его. Да и вообще его надо подкормить, а то вид у него неважный.
Затем меня отправили в камеру.
Страницы
предыдущая целиком следующая