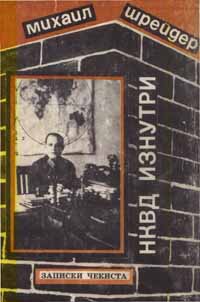Вместе с помощником областного прокурора и оперативниками милиции мы прежде всего в целях разгрузки тюрьмы занялись проверкой дел арестованных, среди которых оказалось много рабочих и служащих, арестованных за мелкие проступки и давно подлежащих освобождению, что и было немедленно сделано.
Одновременно мы ускорили работу милицейской тройки и участили заседания (за 20 дней моего пребывания в Новосибирске было проведено 5 или 6 заседаний) для разбора дел настоящих преступников. Конечно, возможно, что в спешке многие матерые бандиты осуждались на значительно меньшие сроки, чем они того заслуживали, так как для детального расследования времени не было.
Активно включился в работу в этот период приехавший из Иванова (он был переведен в Новосибирск по личной просьбе) Зуев, которого я назначил заместителем начальника уголовного розыска.
Через неделю после моего приезда в Новосибирск мне позвонила по телефону жена Анатолия Данцигера — моего старого товарища по ячейке комсомола в Москве, сообщила, что два месяца тому назад Анатолия арестовали, и просила помощи.
Мне нечем было ее утешить. Я уже Прекрасно знал, что помочь в таком деле никто не может. Все же я позвонил Мальцеву и спросил у него, за что арестовали Данцигера (работавшего в Новосибирске начальником оперативного отдела), и сказал, что хорошо знаю его по комсомольской ячейке ВЧК.
— Вы здесь человек новый и не в курсе дел, — сухо ответил Мальцев — Данцигер арестован по распоряжению Москвы как крупный шпион и террорист. До назначения в Новосибирск он работал в комендатуре Кремля и подготовлял террористический акт против руководителей партии.
Я выразил сомнение в правдоподобности такого обвинения и сказал Мальцеву, что Данцигер был одним из первых комсомольцев-чекистов, по призыву ВЛКСМ добровольно ушедших во флот, и что он честный и хороший парень.
— С таким знакомством не могу вас поздравить, — заключил наш разговор Мальцев.
Когда через несколько дней в Новосибирск из Москвы вернулся Горбач, он вызвал меня к себе для объяснения по поводу моих действий. Я доложил Горбачу о тяжелом положении в области с уголовной преступностью, в связи с чем я счел необходимым использовать работников милиции только по прямому назначению.
— Бросьте возиться с вашей шпаной, — с раздражением сказал Горбач. - Сейчас основная задача всех работников управления НКВД — выкорчевывать врагов на рода. Я имею такую установку лично от Николая Ивановича Ежова.
— Я также имею установку от Ежова и Чернышева — усилить борьбу с уголовной преступностью в Новосибирске и поэтому не считаю возможным отменять свое распоряжение, — возразил я.
Тогда Горбач начал говорить со мной в повышенном, хамском тоне. Я попытался осадить его и сказал, что я прошу на меня не кричать, что я не арестованный и так же, как и он, назначен на свою должность решением ЦК партии.
— Бросьте носиться со своим назначением, — буркнул Горбач, а затем многозначительно отчеканил: — Я имею указание от Михаила Петровича Фриновского очистить область от врагов народа и особенно от врагов, пробравшихся в НКВД.
Произнося последние слова, он бросил на меня неприязненный взгляд и заявил, что, поскольку мои действия тормозят борьбу с врагами народа, они будут соответственно оцениваться.
— Что касается меня, то у вас руки коротки! — резко бросил я и, не желая больше слушать его угрозы, вышел.
Немедленно связавшись по телефону с Москвой, я доложил начальнику ГУРКМ Чернышеву о невозможной обстановке для работы в Новосибирске. Но Чернышев, видимо, сам был напуган создавшимся положением, поэтому ничего членораздельного мне не сказал и не посоветовал, а только предупредил:
— Учтите, что Горбач пользуется большим авторитетом у Ежова и является близким человеком Фриновского.
Больше к Горбачу я не ходил и продолжал начатую мною борьбу с уголовщиной. Руководство УНКВД на каждом шагу ставило мне «палки в колеса». То они снова забирали мои оперативные машины, то прекращали снабжать пайками работников милиции, то еще в чем-либо ущемляли интересы милиции. Но я не реагировал на эти выпады и продолжал с максимальной интенсивностью использовать весь милицейский аппарат в борьбе с бандитизмом и уголовщиной.
В один из этих дней я узнал, что в Новосибирске проездом остановился на 1 — 2 дня следующий в отдельном вагоне до станции Тайга Лев Николаевич Вельский. (Л. Н. Вельский был тогда заместителем наркомпути и одновременно замнаркомвнуделом.) Я очень обрадовался случаю повидаться с ним и немедленно отправился на станцию. Л. Н. Вельского сопровождал мой старый друг Адам Сергеевич Неверное. Оба радушно меня встретили, и мы вместе пообедали в вагоне.
Рассказав Вельскому о создавшейся в Новосибирске обстановке и о моем конфликте с Горбачом, я попросил у него совета.
— Конечно, я могу сейчас позвонить и накрутить хвост Горбачу... — выслушав меня, сказал Вельский. — Но вряд ли это даст положительный результат. Скорее — будет только оттяжкой на две-три недели, месяц... Москва начнет нажимать, и Горбач опять потребует от тебя людей... Ты ему, конечно, откажешь. Начнутся скандалы, которые могут закончиться для тебя трагически. Ты ведь должен понимать, в какое время мы живем... Горбач не только депутат Верховного Совета, но, кроме того, его поддерживают и Ежов, и Фриновский. Ему ничего не будет стоить расправиться с тобой. Ничего не поделаешь... Сейчас такой курс... — и Лев Николаевич грустно улыбнулся.
Расстался я с Вельским и Неверновым очень расстроенный. Кстати сказать, это была моя последняя встреча с ними обоими*1.
_____
*1. Л.Н. Вельский осенью 1938 года был арестован и вскоре расстрелян. А. С. Неверное умер после войны своей смертью.
Несмотря на плохое настроение, оставшееся после разговора с Вельским, я все же продолжал интенсивную работу по разгрузке тюрьмы и очищению Новосибирска от преступных элементов.
Постепенно я узнавал от своих подчиненных все новые и новые подробности о черных делах, творимых работниками Новосибирского УНКВД. В частности, о том, что Горбач распорядился арестовать и расстрелять как немецких шпионов чуть ли не всех бывших солдат и офицеров, которые в первую мировую войну находились в плену в Германии (а их в огромной в то время Новосибирской области насчитывалось около 25 тысяч). О страшных пытках и избиениях, которым подвергались арестованные во время следствия. Мне также рассказали, что бывший областной прокурор, который прибыл в УНКВД для проверки дел, был тут же арестован и покончил с собой, выпрыгнув в окно с пятого этажа. (Этот прокурор, фамилию которого я, к сожалению, забыл, пользовался поддержкой Вышинского. К 20-летию органов прокуратуры он был награжден орденом. Хорошо зная его как исключительно честного и преданного коммуниста, Вышинский тем не менее санкционировал его арест.)
Узнав обо всем этом, я был потрясен и подавлен. Очень скоро я убедился, что кровавая эпопея в Новосибирске затмила ивановские дела.
Никто не понимал, во имя чего все это делалось, но каждый боялся высказывать сомнения, так как подобное высказывание неминуемо навлекало подозрение в пособничестве или сообщничестве с «врагами народа».
В один из дней Горбач созвал совещание оперативного состава, на котором я должен был присутствовать, но я послал туда своего заместителя Хайта, от которого потом узнал, что Горбач во всеуслышание обозвал меня «барином».
В конце третьей недели моего пребывания в Новосибирске мне позвонила Людмила Андреевна Невская — жена моего старого товарища и пригласила к ним вечером на ужин. Я с удовольствием принял приглашение, чтобы хоть немного отвлечься и побыть с друзьями.
Людмила, как всегда, была гостеприимной и веселой хозяйкой и вспоминала о наших беззаботных и веселых субботних вечерах в Иванове в счастливые 1934 — 35 годы. Но Александр Павлович Невский, как я сразу заметил, был чем-то обеспокоен, сумрачен и сдержан. Под конец вечера, отведя меня в сторону, он рассказал, что днем на совещании работников УГБ Горбач заявил: «Вот к нам прибыл новый начальник милиции, который в прошлом был тесно связан с врагом народа Данцигером. — После чего добавил: — Думаю, к этой фигуре надо хорошенько присмотреться».
С тяжелым сердцем прощался я в тот вечер с Невским. Мы с Александром Павловичем знали друг друга многие годы, постоянно контактировали не только по работе, но были близко знакомы семьями, и тем не менее я ясно чувствовал, что в тот вечер он жалел, что Людмила пригласила меня. Это было то страшное время, когда каждый, боясь за себя, старался быть подальше от всякого, кто хоть в малейшей степени мог подпасть под подозрение. Невский, как начальник транспортного отдела, безусловно, был хорошо знаком с «кухней», на которой фабриковались «враги народа», и знал, что одной фразы, произнесенной Горбачом, могло оказаться достаточно, чтобы над моей головой сгустились самые черные тучи. А за мною ниточка могла потянуться и к нему как к старому знакомому.
Распрощавшись с Невским (Александра Павловича в тот вечер я видел в последний раз, летом 1938 года он был арестован и вскоре расстрелян), я отправился к себе в кабинет, связался по телефону с Чернышевым, доложил ему о высказываниях Горбача на оперативном совещании по моему адресу и сказал, что не считаю возможным при таких обстоятельствах продолжать работу в Новосибирске.
Чернышев уговаривал меня не нервничать и спокойно продолжать работать, но я настаивал на том, что в такой обстановке работать не могу. Разговор наш ни к чему не привел, и мы прекратили его, оставшись каждый при своем мнении.
На следующий день я написал приказ по областному управлению милиции примерно следующего содержания:
«В связи с моим выездом по делам службы, с докладом в Москву, оставляю своего заместителя тов. Хайта исполняющим обязанности начальника областного управления милиции.
Приказываю: ни одного работника уголовного розыска и милиции не отвлекать от своих прямых обязанностей и не разрешать использовать их на другой работе.
Начальник Новосибирского областного управления милиции (Шрейдер)».
После этого я выехал в Москву.
Прибыв в Москву 18 или 19 февраля 1938 года, я заехал домой и предупредил жену, что уехал из Новосибирска самовольно и поэтому не знаю, что меня ожидает — возможно даже, арест.
Затем я направился к начальнику Главного управления милиции СССР Чернышеву, которому доложил, что не могу больше продолжать работу в Новосибирске и готов понести за свой отказ любое наказание, которое он найдет нужным применить в отношении меня.
Далее я подробно доложил об обстановке в Новосибирске, о положении дел в милиции и о принятых мною мерах, а также о творящихся там в УНКВД беззакониях: об арестах и расстрелах по распоряжению Горбача бывших русских солдат и офицеров, попавших в плен во время империалистической войны, которые якобы признавались, что являются немецкими шпионами, об избиениях, пытках, расстрелах в «бане» и т.п. Естественно, что я уведомил Чернышева, что знаю обо всем этом со слов моих подчиненных сотрудников, принимавших участие в ряде операций.
— Василий Васильевич, — сказал я Чернышеву. — У меня никогда не дрогнет рука в борьбе с настоящими врагами народа, но я чекист и не верю, чтобы двадцать пять тысяч русских солдат и офицеров оказались шпионами. Со слов моего начальника угрозыска Карасика, который имел некоторое отношение к следствию по этой группе, среди арестованных солдат и офицеров бывшей царской армии было много участников гражданской войны, боровшихся против Колчака, а также много партизан, воевавших на стороне Красной Армии.
Закончил я свой рассказ утверждением, что считаю Горбача фальсификатором и провокатором, который вводит в заблуждение Ежова и Фриновского, пользуясь хорошим к нему отношением с их стороны.
Василий Васильевич, выслушав меня, сказал, что обо всем доложит Ежову и, вероятно, мне придется потом самому подтвердить все рассказанное Николаю Ивановичу.
На следующий день я опять пришел к Чернышеву, который сказал мне, что Ежов принять меня не имеет времени, но что он возмущен действиями Горбача и приказал отозвать меня из Новосибирска и дать мне другую работу. Затем он показал мне копию телеграммы за подписью Ежова, посланной Горбачу, в которой ему ставилось на вид нетактичное поведение в отношении своего заместителя по милиции и он предупреждался, что нового начальника милиции ему не пошлют и впредь обязанности начальника милиции и вся ответственность за эту работу полностью возлагаются лично на него.
Тогда я верил, что Чернышев доложил Ежову не только о нетактичном отношении Горбача ко мне и об использовании работников милиции не по назначению, но и о творящихся в Новосибирске незаконных арестах и расстрелах и что по последнему вопросу Ежов будет принимать какие-либо меры. Но теперь думаю, что Василий Васильевич, гораздо лучше меня разбиравшийся в обстановке, царящей в то время в верхах, а также хорошо ко мне относящийся, наверное, воздержался от передачи Ежову моих настроений по поводу массовых расстрелов, которые в то время проводились повсеместно.
Через день Чернышев сообщил мне, что по распоряжению Ежова меня назначают заместителем наркома внутренних дел по милиции и начальником главного управления милиции Казахской ССР и что наркомвнудел Казахстана Реденс, которого запросили, дал согласие на мое назначение.
Я был приятно удивлен тем, что меня — единственного из начальников управлений милиции — назначили замнаркомвнуделом. Обычно во всех республиках начальники милиции были помощниками наркомов, а в областях помощниками начальников УНКВД. Я наивно думал, что Ежов хочет морально поддержать меня в связи с незаслуженно нанесенной мне Горбачом обидой.
Теперь я считаю, что, скорее всего, был обязан своим повышением в должности хорошему отношению ко мне В.В.Чернышева.
Успокоенный и окрыленный, с новым назначением в кармане, я на следующий день отправился обратно в Новосибирск, чтобы сняться там с партийного учета.
В Новосибирске я пробыл всего несколько часов, от поезда до поезда. Снялся в райкоме с партучета, а затем со своими (уже бывшими) заместителями и с начальником угрозыска мы хорошо пообедали на прощание в ресторане «Центральной» гостиницы.
Все поздравляли меня с повышением в должности и радовались, что мне удалось «одернуть и поставить на место» начальника УНКВД Горбача, который до моего приезда помыкал работниками милиции как хотел.
Хайт с юмором рассказывал, как Горбач, получив от Ежова выговор за нетактичное поведение в отношении начальника милиции и узнав, что я назначен в Казахскую ССР заместителем наркома, с яростью ругался по моему адресу, называя сволочью и призывая на мою голову всевозможные проклятия за то, что я посмел нажаловаться на него в Москве.
После обеда все присутствующие проводили меня на вокзал, где мы, пожелав друг другу всяческих благ и успеха в работе, распрощались, и я по новой, знаменитой тогда железнодорожной магистрали Турсиб направился прямым назначением через Семипалатинск в Алма-Ату.
Алма-Ата
Прибыв на станцию Алма-Ата, я зашел в транспортное отделение милиции и попросил соединить меня по телефону с наркомом внутренних дел Казахстана С.Ф.Реденсом. Узнав, что я приехал и сижу на вокзале, Станислав Францевич отругал меня за то, что я не дал телеграммы, и сказал, что сейчас же отправляет за мной машину. Через 10 — 15 минут за мной приехали знакомый мне по Иванову Викторов, незадолго до моего приезда получивший назначение на должность начальника 3-го отдела УГБ Казахской ССР, и секретарь Реденса Козин. Пока мы ехали с вокзала, для меня успели забронировать номер в единственной тогда в Алма-Ате гостинице, где я оставил чемодан и отправился к Реденсу.
Станислав Францевич был искренне рад моему приезду, держал себя со мною так же просто, как и прежде, когда я работал у него в 1933 году в Московской области — начальником 6-го отделения. Вглядываясь в его лицо, я радовался, видя его не изменившимся, и гнал от себя мысли о том, что это тот самый Реденс, под руководством которого Радзивиловский с компанией начинал свою страшную работу по уничтожению руководящих партийных и советских работников Москвы и области.
Поговорив с Реденсом, я отправился к начальнику главного управления милиции Казахской ССР Кролю, которого должен был сменить. Еще в Москве я узнал, что его снимали с работы как не справляющегося со своими обязанностями. С Кролем я не был знаком, но слышал о нем как о старом заслуженном большевике, члене партии с 1905 года.
Приехав в главное управление милиции, размещавшееся в трехэтажном старинном доме с какими-то темными лестницами и переходами, я был неприятно поражен запущенностью здания как снаружи, так и внутри. Коридоры и лестницы был заплеваны и замусорены, никаких вахтеров нигде я не встретил, кто угодно мог свободно ходить по всем комнатам и кабинетам управления. У входа в коридоре лежали несколько пьяных, спящих мертвым сном... Войдя в кабинет Кроля, я представился и вручил ему мои документы. Кроль оказался хилым человеком болезненного вида, видимо, очень добрым и душевным. Он выразил удивление и даже обиду, что я сразу с вокзала поехал к Реденсу и не известил его о приезде, чтобы он мог меня встретить.
Я оправдался тем, что Реденса давно знаю, а его, Кроля, не торопился огорчать, понимая, что не очень приятно оказаться в его положении — сдающего дела. Затем, чтобы развеселить его, я рассказал, что в 1919 году, пробираясь через границу из Вильно, занятого белополяками, я имел поручение к нему — Кролю — от виленского подпольщика, писателя Оршанского, но, получив в Утьянах от Эйдукевича другое задание, передал последнему все, что требовалось передать Кролю. И только вот теперь, через 19 лет, наконец увидел его — Кроля...
Мы поговорили с ним об общих знакомых, товарищах по 1919 году. Не помню, в тот же вечер или на другой день я заходил к нему домой, на улицу Фрунзе. Кроль был холостяком и жил в маленьком одноэтажном особнячке совершенно один. Какая-то пожилая женщина приходила к нему делать уборку и готовить, но тем не менее в домике был ужасный беспорядок и неприятный запах, так как Кроль держал в квартире трех кошек, которых очень любил.
Почувствовав ко мне расположение, Кроль сказал, что ожидает ареста, поскольку слышал, что на отозванного в Москву и, по имеющимся у него сведениям, уже арестованного там бывшего наркомвнудела Казахской ССР Залина собран большой компрометирующий материал, а он с Залиным проработал здесь довольно большой период. Я попытался разуверить его, но известие об аресте Залина, которого я знал с самой лучшей стороны, огорчило меня.
Дня через два Кроль должен был уезжать в Москву для получения нового назначения. В день его отъезда я собрал руководящий оперативный состав и обратился ко всем товарищам с просьбой — вместе со мною проводить заслуженного старого революционера, проработавшего здесь долгое время. Одновременно я приказал начальнику железнодорожной милиции выставить на перроне почетный караул на проводах Кроля. В результате собралось довольно много народа.
Старик, не ожидавший таких проводов, растроганно прощался с бывшими сослуживцами, а когда дошла очередь до меня, крепко расцеловался со мною и не мог сдержать слез.
В купе международного вагона, забронированное для Кроля, внесли его любимых кошек в каких-то корзинках или коробках, и поезд тронулся.
Узнав о проводах, устроенных мною Кролю, Реденс с неудовольствием заявил, что незачем было это делать. Видимо, он предвидел или точно знал о грозящем Кролю аресте.
Тем не менее я был доволен, что на прощание доставил старому большевику хоть несколько приятных минут. (Опасения, высказанные Кролем, оправдались. Вскоре после приезда в Москву он был арестован и, видимо, расстрелян или погиб где-нибудь в лагере.)
Чуть ли не на следующий день после моего прибытия в Алма-Ату Реденс повез меня представлять первому секретарю ЦК Казахстана Леону Исаевичу Мирзояну, председателю Совнаркома Исаеву и ряду других руководящих работников республики.
Я обратился к Мирзояну с просьбой помочь с кадрами, и, хотя он сначала огрызнулся, сказав, что «не обязан быть нянькой у милиции», все же ЦК Казахстана был мобилизован ряд членов партии и комсомольцев для укрепления органов милиции.
В Алма-Ате я встретил некоторых старых сослуживцев. Нашлись знакомые и среди моих подчиненных по линии милиции.
С большой радостью встретились мы в Алма-Ате с корреспондентом «Правды» Александром Дмитриевичем Козловым, с которым подружились еще в Иванове, где он был в том же амплуа. Козлов познакомил меня с корреспондентом «Известий» Семеновкером, и оба стали постоянными моими спутниками и гостями в свободные вечера и выходные дни — сначала в гостинице, а затем, когда приехала моя семья, в маленьком особнячке на улице Фрунзе.
Положение с уголовной преступностью в Казахстане было таким же тяжелым, как к моему приезду в Иванове или в Новосибирске. Как в управлении, так и на местах накопилось огромное количество нераскрытых дел по убийствам, вооруженным грабежам и квалифицированным кражам. Это тяжелое положение частично объяснялось тем, что на территории Казахстана находился огромный Карагандинский лагерь и такие же лагеря были расположены в граничащих с Казахстаном Новосибирской и Алтайской областях. В те годы уголовники довольно часто совершали массовые побеги, а поскольку в Алма-Ате в то время не было паспортного режима, большинство уголовного элемента оседали в столице Казахстана.
Как в свое время в Ивановской области, здесь сразу же пришлось принимать чрезвычайные меры. Для усиления работы милиции на всех крупных предприятиях республики начали активно создаваться группы ОСОДМИЛ, которые до этого существовали лишь на бумаге.
По договоренности с прокуратурой был максимально ускорен процесс следствия. Была произведена соответствующая перестановка кадров в уголовном розыске и в ОБХСС. На руководящие оперативные должности были выдвинуты способные молодые работники, а также началась повседневная работа по насаждению соответствующей агентуры, которой, как и к моменту моего приезда в Иваново, в Алма-Ате почти не было.
Аппарат милиции Казахстана был работоспособный, а наркомвнудел Реденс не отвлекал работников милиции на другие дела. Наоборот, помогал чем мог.
Через несколько дней после моего приезда начальник санотдела управления милиции Фролов (прекрасный врач, с большой любовью относящийся к своим обязанностям), докладывая о положении дел, пожаловался, что его подчиненная женщина-врач, член партии (фамилии не помню), наблюдающая за камерами предварительного заключения при главном, а также при всех городских отделениях милиции, несмотря на неоднократные его требования и предложения, бездельничает и не выполняет элементарных правил санитарии и гигиены. Я вызвал при Фролове этого врача, и мы все вместе отправились обследовать состояние тюрем. То, что представилось моим глазам, намного превосходило описания доктора Фролова. В камерах была неописуемая грязь, невыносимая вонь, у многих арестованных была чесотка, многие жаловались на боли в желудке, некоторые арестованные обовшивели и т.п. Аналогичное положение было и в других камерах предварительного заключения в пяти или шести городских отделениях милиции, которые мы в тот день осмотрели. Когда я начал распекать эту женщину-врача, спросив, как она, врач и член партии, могла допустить подобное безобразие, и пригрозил, что отдам ее под суд, она высокомерно заявила:
- Я переживаю здесь третьего начальника, и все были довольны моей работой. А вы хотите создать какой-то рай для «врагов народа» и преступников.
Это ваша работа скорее напоминает действия настоящего врага народа, — оборвал ее я и тут же поручил начальнику отдела кадров составить приказ об ее увольнении и о передаче материала в парторганизацию для разбора ее деятельности. (Проводилось ли это разбирательство, я не проследил, но с этой женщиной мне довелось позднее встретиться при совершенно иных обстоятельствах.)
Поскольку в Алма-Ате, как я уже упомянул, было огромное количество уголовников, ЦК и правительство Казахстана еще до моего приезда ходатайствовали перед ЦК и Совнаркомом СССР о необходимости введения в Алма-Ате паспортного режима. Однако решение этого вопроса затягивалось, и я, ознакомившись с положением дел, специальной докладной описал В. В. Чернышеву катастрофическое положение с преступностью и просил ускорить введение режима.
Вскоре после этого был получен приказ наркомвнудела о введении в Алма-Ате паспортного режима, ответственность за выполнение которого была возложена персонально на меня.
Не знаю, было ли известно инициаторам из ЦК и Совнаркома Казахстана о всех вытекающих из этой меры последствиях. Во всяком случае, я, поддерживая это ходатайство в своей докладной на имя Чернышева, имел в виду очищение города от уголовных элементов. Но оказалось, что большая половина лиц, подлежащих высылке, относилась не к уголовникам, а, увы, к местным специалистам и интеллигенции. Дело в том, что в 1926 — 27 годах и в более позднее время в Алма-Ату высылали ученых, инженеров, врачей, агрономов и других специалистов, в прошлом судимых на небольшие сроки (3 — 5 лет) или сосланных на поселение. Почти у всех из них эти сроки давным-давно истекли, но теперь, с вводом паспортного режима, по нелепому указанию свыше требовалось снимать их с насиженных мест и выселять в районные центры.
От этого непродуманного мероприятия страдала вся республика, так как ее столица теряла наиболее видных ученых, город лишался знаменитых профессоров и врачей, прекрасных инженеров-строителей, многие из которых давно были зачислены в штат НКВД или в штаты руководящих органов республики.
Однако делать было нечего. Теперь все мы были обязаны выполнять приказ ЦК и Совнаркома. В течение двух-трех недель мне на подпись приносили огромные списки, сшитые в целые тома, граждан, подлежащих высылке.
На этой почве у меня произошло несколько столкновений с первым секретарем ЦК Казахстана Мирзояном, который требовал не высылать тех или иных ценных работников республиканского аппарата, а я настаивал, чтобы он возбуждал об этом ходатайство перед Москвой, так как сам я не имел полномочий это делать. Аналогичные столкновения происходили и с рядом других руководящих работников республики. Но, конечно, мне приходилось нарушать требования, и я на свой страх и риск вычеркивал из списков не одну сотню фамилий наиболее пожилых врачей, профессоров и инженеров, считая, что будет полезнее, если они останутся в Алма-Ате. Не знаю, не подвергались ли все они высылке после моего ареста, последовавшего месяца через полтора после окончания всех этих дел...
Несколько позднее у меня с Мирзояном произошел конфликт по иному поводу. В газете «Правда» была помещена критическая статья, затрагивающая Мирзояна, под названием, кажется, «На поводу у националистов». Мирзоян узнал об этой статье заранее (в Алма-Ату центральные газеты привозились через сутки или двое) и распорядился запретить продажу этого номера газеты. В связи с этим я выступил на партконференции, обвинив Мирзояна в недопустимых действиях. (Во время пребывания в Алма-Ате меня избрали сначала членом райкома, затем горкома и, наконец, Алма-Атинского обкома партии.) После моего выступления Реденс сделал мне замечание, сказав, что я напрасно выступал с критикой Мирзояна, так как он может сделать из этого вывод, что в НКВД ведется разработка на него.
— А разве такая разработка ведется? — удивился я.
Реденс ответил, что ему дано указание из Москвы подобрать материалы на Мирзояна.
С Реденсом в Алма-Ате у меня с самого начала установились хорошие взаимоотношения, но, несмотря на это, в то время яд недоверия настолько сильно отравил всех нас, что я боялся быть с Реденсом откровенным до конца и старался не заговаривать с ним на темы о проводимых его подчиненными следствиях, арестах и т. п. Сам он также первое время не затрагивал этих вопросов. Интуитивно я чувствовал, что сам Реденс хотя и выполняет приказы Сталина и Ежова, но работает не с полной отдачей.
За три с половиною месяца совместной работы я, присутствуя почти на всех оперативных совещаниях УГБ, не раз был свидетелем того, как Реденс себя вел. Он старался уклониться даже от санкции на арест тех или иных руководящих работников, взваливая эти обязанности на своего заместителя по УГБ Володько*1.
_____
*1. Володько П. В. — майор госбезопасности, замнаркома НКВД Казахской ССР. Расстрелян в 1940 году.
Вообще в тот период Реденс старался как можно меньше работать, устраивая для себя различного рода проверки и инспекции, чтобы побольше поездить по городу, по пригородам, и постоянно уговаривал меня ехать вместе с ним.
Со своими заместителями Реденс не только не дружил, но я ни разу не видел никого из них у него дома. Кроме меня у него бывали только его секретарь Козин и Викторов.
Переехав из гостиницы в бывшую квартиру Кроля, расположенную рядом с домом Реденса, я распорядился, чтобы мне приносили обед и ужин из нашей столовой. Узнав об этом, Реденс стал настаивать, чтобы я обедал у него. Я старался уклоняться от этих приглашений, чтобы не надоедать, все же довольно часто Станислав Францевич затаскивал меня к себе обедать.
К Викторову я ни в Иванове, ни здесь, в Алма-Ате, никаких симпатий не чувствовал. Наоборот, зная о его участии в самых страшных и грязных делах, инстинктивно держался от него по возможности на отдалении. Он же всегда был со мною подчеркнуто любезен и вежлив, и у меня не было формально никаких оснований считать его своим недоброжелателем. Встречались мы только у Реденса. К себе я его никогда не приглашал и к нему домой никогда не ходил.
Из обрывков разговоров Викторова и других следственных работников НКВД между собой, которые мне приходилось слышать, я знал, что они, так же как и в Иванове, избивают арестованных и добиваются от подследственных нужных им показаний, но открыто об этом не говорилось.
Более того, однажды я своими ушами слышал, как Реденс на оперативном совещании руководящего состава наркомата, где я присутствовал, заявил:
Страницы
предыдущая целиком следующая