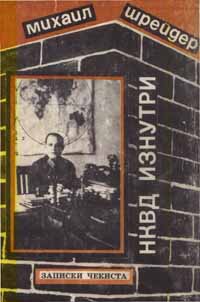Затем я начал перелистывать лист за листом, многие из которых раскрывали передо мною трагические судьбы сослуживцев и товарищей, а некоторые наглядно демонстрировали шкурничество ряда трусов и подлецов.
В деле была справка о том, что Хорхорин отказывается от ранее данных им показаний, вынужденных пытками и избиениями, о моей якобы шпионской и террористической деятельности. В конце справки было сказано, что Хорхорин умер в тюрьме от скоротечной чахотки. (Хорхорин был совершенно здоровым человеком, и для меня, равно как и для всех знавших его перед арестом, было ясно, что его попросту убили во время следствия, ведь кровотечение из отбитых легких тогдашним ежовским врачам совершенно естественно было признать чахоткой.)
В следственном деле были справки об отказе от показаний на меня, как вынужденных избиениями и пытками: Чангули, Клебанского, Кондакова, Дунаева и других.
Как это ни покажется странным, но я заплакал от обиды, читая гнусные показания выгнанного мною из милиции за пьянство, взяточничество и разложение некоего Козлова. В связи с его молодостью я пожалел отдавать его под суд — ограничился 15 сутками ареста и увольнением из органов. Как я уже упоминал, начальник УНКВД Журавлев, собираясь фабриковать на меня дело, разыскал всех выгнанных мною пьяниц и взяточников, восстановил их на работе, уговорив написать на меня всяческую клевету. И вот Козлов в своем заявлении написал, что я вообще постоянно избивал своих подчиненных.
Эта клевета показалась мне гораздо обиднее всех лживых обвинений в шпионаже, правотроцкизме, терроре и прочее.
Но были в моем деле и отрадные страницы.
Опуская описание подлости, хочу сказать несколько теплых слов по адресу бессменного водителя моей машины в Иванове, замечательного парня, в прошлом пограничника — Сергея Степановича Курнатова.
Всем товарищам нашего поколения хорошо известна существовавшая в те годы гнусная практика: немедленно после ареста объявлять на партийных собраниях, что такой-то «враг народа» тут же признался в терроре, шпионаже и т.д., независимо от фактического положения дел.
Сейчас не могу вспомнить, от кого и когда я узнал (конечно, не из своего следе гвенного дела, а скорее из чьих-то рассказов), что после моего ареста, когда я еще никаких показании не давал, меня на партийном собрании Главного управления милиции в Москве объявили сознавшимся немецким шпионом и террористом. В печатных органах ЦК Казахстана и в газете «Рабочий край» в Иванове было напечатано, что «в органы пробрался матерый шпион и террорист Шрейдер, который ныне разоблачен».
На собрании работников НКВД и милиции в Иванове так же было объявлено, что я не только сознался в шпионаже, но уже расстрелян.
И вот мой бывший шофер Сергей Курнатов — единственный из присутствующих на этом собрании моих многочисленных подчиненных и сослуживцев ~ встал и заявил:
— С Михаилом Павловичем я работал бок о бок четыре года и никогда не замечал чего-либо, порочащего его как
коммуниста. Он горел на работе, выезжал со мною вместе на самые опасные операции, и я не верю, что он враг народа.
На Курнатова, конечно, сразу же набросились с критикой, его тут же сняли с работы, связанной с перевозкой начальства, и посадили на грузовик (на низкооплачиваемую работу), да и то, видимо, только в связи с дефицитностью профессии шофера (а Курнатов был шофером 1-го класса).
Позднее от жены я узнал, что Курнатов, приехав за чем-то в Москву, заходил к жене на квартиру и принес моим малышам какие-то сладости и подарки, купленные на деньги, выделенные из своих скромных заработков.
Много лет я просил немногочисленных товарищей, писавших мне из Иванова, навести справки и узнать адрес Курнатова, но только осенью 1973 года наконец получил письмо от самого Курнатова, который, как оказалось, живет и пока еще работает шофером в Иванове и имеет уже внуков.
Я написал ему большое письмо, в котором сообщал, что считаю его своим самым верным другом. Приглашал к нам в Москву. Правда, пока он приехать не собрался. Теперь мы систематически с ним переписываемся.
Из дела я узнал, кем и при каких обстоятельствах была начата провокация и фальсификация материалов против меня, затеянная еще подчиненными Радзивиловского.
На одном из доносов на меня, который был в деле, Викторов написал заключение не в мою пользу и передал Радзивиловскому. Последний же наложил на нем резолюцию — не то «Чепуха!», не то «Ерунда!» — и не дал ход делу. Итак, выходит, что я обязан жизнью Радзивиловскому, потому что, если бы меня арестовали тогда, в конце 1937 года, вряд ли я остался бы в живых. Чем же можно объяснить такое отношение к моей персоне со стороны Радзивиловского? Возможно, тут сыграли роль старое знакомство и полтора года совместной жизни в одной квартире в Варсонофьевском переулке. Очень любя детей, я постоянно возился с маленьким сынишкой Радзивиловских, Виктором, а жена Радзивиловского, Софья Борисовна, тепло и по-дружески относилась ко мне. Радзивиловский же с большим уважением относился к жене и побаивался ее резкой и справедливой критики.
Еще более удивило меня при дальнейшем ознакомлении с моим следственным делом то обстоятельство, что Радзивиловский, арестованный на 5 месяцев позднее меня, оговорив себя и всех своих ивановских помощников (Саламатина, Юревича, Викторова, Ряднова, а также своих бывших начальников Агранова, Реденса и, насколько память мне не изменяет, даже самого Ежова — Радзивиловский дал показания, что Агранов завербовал его в шпионскую организацию в пользу какой-то иностранной державы, а потом перевербовал в другую шпионскую организацию сам Ежов), на вопрос следователя о моем участии в его антисоветской организации написал, что «Шрейдер не знал о существовании нашей контрреволюционной организации, а если бы узнал, то, как коммунист, фанатично преданный партии, и человек с очень вспыльчивым характером, всех нас бы перестрелял».
В каком-то другом месте в протоколе допроса Радзивиловского значилось, что на вопрос, не состоял ли Шрейдер в возглавляемой им правотроцкистской организации, к которой он причислял всех своих «помощников», он почему-то в отношении меня написал хвалебный отзыв, отрицая всякую возможность моего участия в антисоветской деятельности. А ведь он еще до своего ареста знал, что я в Алма-Ате уже арестован и, следовательно, моя судьба почти предрешена. И все же старался меня выгородить. Почему он это сделал — навсегда останется непонятным не только для меня, но и для многих, кто знал нас обоих.
Когда я закончил знакомиться со своим следственным делом, Ефименко, распростившись со мною, выразил надежду на мое скорое освобождение и отправил обратно в камеру.
К сожалению, это была моя последняя встреча с Ефименко.
Опять Бутырка
Вскоре меня перевели в Бутырскую тюрьму и неожиданно поместили не в общую камеру, а в одиночку (вернее, в карцер), находящуюся под лестницей, под какой-то башней (но не Пугачевской). В этой камере-карцере, в одиночестве, я «отпраздновал» День советской авиации — 18 августа 1939 года.
В середине сентября меня перевели в одиночную камеру спецкорпуса, где, как я знал еще ранее, содержались особо опасные государственные преступники. Здесь помещение было несколько лучше, но, когда начались заморозки, а затем и морозы, все стены и маленькое зарешеченное окошечко обледенели и холод стал нестерпимым.
Я ежедневно требовал перевода в нормальное помещение и продолжал доказывать свою невиновность.
Наконец начальник тюрьмы перевел меня в одну из камер знаменитой Пугачевской башни, которая показалась мне раем. Здесь было чисто и тепло. Камера была рассчитана на трех человек, хотя вначале я был в ней один.
В этот период я начал усиленно читать. Прочитал всего Бальзака, Стендаля, Гюго, Достоевского, Толстого, Тургенева и много других книг замечательных писателей.
К великому сожалению, мне пришлось побыть в этой относительно хорошей камере не более двух-трех недель: меня водворили в камеру спецкорпуса с двумя койками. В этой камере я провел в одиночестве 6 — 7 месяцев, до июля 1940 года.
Находясь полгода в одиночке, я не знал, что гитлеровцы напали на Польшу, не знал, что началась война СССР с Финляндией, и, когда однажды в камере заменили обычную электрическую лампочку на синюю, я не придал этому особого значения.
Но вдруг ко мне привели человека в полицейской форме. Он ни слова не понимал по-русски, но, кое-как объяснившись знаками и односложными словами, я понял, что передо мной начальник финской жандармерии из города Выборга.
Я потребовал, чтобы жандарма от меня убрали, и часа через 2 — 3 его куда-то перевели.
Второй раз ко мне на 2 — 3 дня посадили испанского коммуниста, также не говорившего ни слова по-русски. Мы все же могли с ним объясниться знаками и отдельными словами на всех языках. Из его жестов и слов я понял только, что он был испанским коммунистом и сражался в Испании против франкистов, а после победы Франко вместе с группой других испанцев эмигрировал в СССР, где проживал в общежитии испанских эмигрантов. Неожиданно несколько человек из них, в том числе и он, были арестованы. Он рассказывал, что его обвиняют в шпионаже и дважды избивали. Надо полагать, что вахтеры, услышав, что мы разговариваем и понимаем друг друга, сообщили кому-то об этом, и испанского товарища от меня увели.
В третий раз за этот период ко мне в камеру посадили молодого чехословацкого летчика-коммуниста. С ним мне было уже легче объясняться, так как в наших языках много общих слов. Летчик рассказал, что, будучи мобилизованным гитлеровской армией, договорился с товарищем, и оба они на самолетах советской марки (какой именно, не помню), не желая служить у фашистов, перелетели на Украину и благополучно приземлились на одном из наших аэродромов. После этого оба были арестованы и доставлены в Москву. В Москве его с товарищем разъединили и обвинили в шпионаже. Чех был страшно подавлен и оскорблен в своих лучших чувствах, особенно оттого, что следователь называл его фашистом и бил. Но и чеха через 2 — 3 дня от меня убрали, и я продолжал сидеть в камере один.
Поздней осенью 1939 года меня наконец вызвали из одиночной камеры спецкорпуса на допрос к неизвестному следователю, который неожиданно для меня вдруг стал кричать, что я «враг народа», и требовать, чтобы я рассказал о своей шпионской деятельности.
Я был ошеломлен и совершенно обескуражен. Я заявил, что мое дело по 58-й статье прекращено, что это утверждено главным военным прокурором диввоенюристом Гавриловым.
— Гаврилов такой же враг, как и ты, — заорал на меня следователь.
— А как же Кобулов? — спросил я. — Ведь он тоже подписал постановление о прекращении моего дела.
Следователь дважды стукнул меня и отправил обратно в камеру. Надо полагать, что, вызывая меня, он не успел даже познакомиться с моим делом, потому что минут через 20 — 30 меня снова вызвали к этому же следователю; он предъявил мне обвинения по статье 193/17-А и начал требовать показаний, что я с целью вредительства осуждал невиновных людей.
Я сидел совершенно убитый и ничего не понимал.
Следователь продолжал орать, что я совершенно развалил в ивановской милиции агентурную работу, слабо боролся с преступностью и чуть ли не насаждал в области бандитизм.
Я категорически отрицал предъявленные мне новые обвинения, приводя, на мой взгляд, неопровержимые доказательства: в приказах ГУРКМ СССР с 1934 по 1938 годы неоднократно отмечалась положительная работа ивановской милиции; Ивановская область ставилась в этих приказах в пример другим; за четыре года моей работы в Ивановской областной милиции я был награжден третьим боевым оружием, знаком «Почетный милиционер» к 20-летию милиции. Указом Президиума Верховного Совета СССР я был награжден орденом Красной Звезды.
Но следователь упорно, как заученный урок, твердил свое, причем говорил общими фразами.
Следует заметить, что в то время я был так счастлив, что с меня сняли обвинения по 58-й статье (измена родине, шпионаж, террор и т.п.), что не особенно старался защищаться от обвинений по статье 193/17-А (халатность, злоупотребление властью и т.п.). Да если бы я и хотел защищаться, то этой возможности у меня не было. Мои неоднократные письма на имя прокурора с требованием вызвать меня для допроса оставались безответными.
Все это время (то есть с того момента, как в июле 1939 года с меня были сняты обвинения по статье 58-й, и до апреля 1940 года) в Иванове, видима, изыскивали провокационный материал об упущениях или нарушениях законов в моей служебной деятельности. Вероятно, нелегко было найти такой материал, если на это понадобилось 10 месяцев. Потому я после предъявления мне обвинения по статье 193/17-А еще четыре или пять месяцев просидел в одиночке. Только в апреле меня наконец вызвали к новому следователю, который предъявил те же обвинения: развал агентурной работы, насаждение в Иванове бандитизма и «вредительский пропуск» через тройку уголовников, подлежащих нарсуду.
Наконец, в конце апреля очередной следователь объявил мне об окончании следствия и о признании меня виновным по статье 193/17-А, то есть злоупотребление властью и преступная халатность (опять-таки не расшифровывая, в чем именно состояла моя вина).
— Правда, материал для твоего обвинения слабоват,— любезно успокоил меня следователь. — Возможно, судить тебя не будут и вернут дело. Но все равно ты, троцкистская сволочь, от нас не уйдешь. Пропустим тебя через особое совещание.
Из этого я понял, что в отношении меня есть указания ни при каких условиях меня на свободу не выпускать.
После этого, последнего допроса я еще около трех месяцев просидел в одиночке, 2 июля меня уведомили о назначении на следующий день суда. Обвинительного заключения мне прочитать не дали и ничего о существе обвинений не сказали.
В ночь перед судом меня измучили всевозможные страшные мысли. Несмотря на то, что меня обвиняли уже не в шпионаже и терроре, а только в якобы допущенном «злоупотреблении властью», невольно думалось, что если где-то в верхах решено меня ни в коем случае не выпускать, то и по этой статье могут приговорить к расстрелу.
Я попросил вахтера вызвать ко мне врача. Пришедшей фельдшерице я объяснил, что меня завтра будут судить, что я никак не могу заснуть и прошу дать мне снотворное. К моему удивлению, она без всяких возражений дала мне таблетку.
Но, тем не менее, вся эта ночь казалась мне каким-то кошмаром.
Суд
В «черном вороне» меня доставили в Черкасский переулок, где находился военный трибунал войск НКВД Московского округа.
Когда меня выводили из машины, с двух сторон остановились прохожие, и я за долгие месяцы тюремного заключения впервые увидел москвичей и московское небо. День был чудесный. Мне почему-то казалось, что моя жена должна обязательно быть в этой толпе: я знал, что она по Черкасскому переулку ходила на работу в Наркомфин. Но ни одного знакомого лица в толпе не было, а меня подталкивали в спину к подъезду со словами: «Быстрее, быстрее!»
До начала заседания суда меня усадили в специальную маленькую комнату для заключенных, напоминающую дежурку для ночного сторожа. Из окна этой комнаты я видел, как в доме напротив, где было какое-то учреждение, работали и ходили люди. Я заметил сидящую за столом машинистку, которой кто-то диктовал, и оба они смеялись. Я думал о том, что происходило со мной, а жизнь шла своим чередом, и работающие в доме напротив люди так же, как и прохожие, шедшие мимо подъезда суда, ничего не ведали, не знали и, наверное, не хотели знать...
Наконец меня повели наверх, в зал судебного заседания. Председательствовал на суде Ждан, известный мне по двум выездным сессиям Верховного суда в Иванове, где при его участии были присуждены к расстрелу председатель Ивановского облисполкома Агеев и вместе с ним целая группа других партийных и советских руководящих работников, обвиненных в правотроцкизме, терроре, шпионаже и прочих несусветных грехах.
Кроме председателя Ждана, секретаря Склокина, двух заседателей (один в форме милиции, другой в форме войск НКВД), конвоя и меня, в зале никого не было. В суде совершалась внесудебная закрытая расправа — не было ни прокуроров, ни адвокатов.
Огласили обвинительный акт, в котором я обвинялся в злоупотреблении властью, в развале работы милиции Ивановской области, в частности, в развале агентурной работы, результатом чего якобы было усиление преступности в области. Далее в акте говорилось, что «враг народа» Шрейдер «в порядке вредительства», являясь председателем внесудебной тройки, проводил через тройку большое количество уголовников, подлежащих нарсуду.
Главный свидетель обвинения оперуполномоченный Е. Соловьев, занимавшийся в период моей работы в Иванове подготовкой дел на так называемую милицейскую тройку, на суд не явился.
(Много лет спустя я узнал от бывшего моего подчиненного по ивановской милиции Корытова, что Соловьев впоследствии был выгнан из милиции, спился и умер от белой горячки.)
Двое других «свидетелей» — работников госбезопасности Иванова — на мой вопрос, знают ли они, в чем меня обвиняют, ответили, что я являюсь «членом правотроцкистской организации, шпионом и террористом».
Председательствующий Ждан вынужден был объяснить им, что это обвинение мне не предъявляется и что меня теперь обвиняют только в служебном преступлении.
Тогда я с разрешения председательствующего задал свидетелям второй вопрос: откуда они знают, что меня якобы обвиняют в столь тяжком преступлении?
«Свидетели», не моргнув глазом, ответили, что накануне отъезда из Иванова их вызвал начальник УНКВД Блинов и проинструктировал, что говорить на суде.
Я обратился к председателю трибунала с просьбой зафиксировать ответы свидетелей в протоколе судебного заседания и заявил, что двое работников УНКВД являются лжесвидетелями, поскольку сами ничего не знают по существу дела, а выполняют инструкцию начальника УНКВД Блинова.
— Не учите нас, — раздраженно бросил Ждан, начинавший нервничать. — Признаете вы себя виновным в том, в чем вас обвиняют? •
Я признать себя виновным отказался. Кроме того, отметил, что ни одного свидетеля, выступившего бы по существу обвинения, не было, ни одного документа, свидетельствующего о моей виновности, мне не предъявили и не зачитали, равно как не показали и не назвали ни одного дела или фамилии невинно или неправильно осужденного. На основании же одних общих фраз, не зная конкретно, в чем меня обвиняют, я ничего не могу сказать. Но, конечно, как и всякий другой руководитель огромного участка работы, не могу поручиться, что за годы работы в Ивановской области, насчитывающей в те годы 97 городов, нигде и никаких отдельных злоупотреблений не было допущено, хотя сам я таких случаев не помню.
(Как выяснилось впоследствии, эти мои слова были занесены в протокол, как мое «признание в злоупотреблении властью и в преступной халатности».)
Должен сказать, что после стольких избиений, пыток и перенесенных моральных издевательств я в тот момент не полностью осознавал серьезность всего происходящего и думал, что не беда, если за столько лет безупречной работы в органах и в милиции в моей деятельности нашли какие-то не очень существенные, как я считал, недочеты.
Вся комедия суда продолжалась не более 20 — 30 минут, не считая моего последнего слова. Я все же попытался объяснить председательствующему и заседателям, что даже если в процессе моей работы в ивановской милиции могли быть отдельные ошибки, то я должен нести за это моральную ответственность, но ни в коем случае не уголовную, тем более что уже в течение двух лет нахожусь в заключении, несколько месяцев меня били, подвергали нечеловеческим пыткам, содержали и продолжают содержать в одиночной камере. И это при том, что никакой конкретной вины я за собой не знаю.
В течение моей сбивчивой речи Ждан несколько раз пытался меня перебить, а когда я начал рассказывать о допросе у Берии и о его обещании разобраться с моим делом, Ждан резко прервал меня и объявил судебное заседание законченным. Судьи удалились для вынесения приговора.
Конвоиры казались мне неплохими ребятами, я по их взглядам интуитивно чувствовал, что их симпатии на моей стороне.
Во время перерыва ко мне подошел секретарь суда майор Склокин (возможно, он жив и помнит эту комедию), стал меня успокаивать, говоря, что по ходу судебного разбирательства моя невиновность полностью доказана, и выразил уверенность, что меня оправдают.
Минут через 8 — 10 появились судьи. Мне был зачитан длинный приговор, явно заранее напечатанный на машинке; за такой короткий срок его не смогли бы составить и напечатать.
Приговор, по сути, почти полностью повторял все формулировки обвинительного акта. Добавилось еще обвинение в бытовом разложении... Приговор был такой длинный, что я не запомнил многочисленных его формулировок, тем более что он не содержал никаких конкретных обвинений. Но последнюю часть я запомнил на всю жизнь: «Приговаривается к лишению свободы и заключению в ИТЛ сроком на 10 лет с последующим поражением в правах сроком на три года». Далее следовали параграфы о лишении звания и правительственных наград.
Ошеломленный, я взглянул на секретаря суда Склокина, только что сулившего мне освобождение. Он опустил глаза и боялся на меня посмотреть.
— Вам понятен приговор? — обратился ко мне председательствующий.
Я ответил отрицательно.
Тогда он повторил последнюю часть приговора, о сроке.
Я сказал, что текст и раньше мне был понятен, но непонятно, как может советский суд меня — коммуниста, в прошлом рабочего — мало того, что безвинно осуждать на 10 лет, но и уподоблять какому-то лишенцу, поражая меня на 3 года в правах после отбытия срока.
— Раз я остался жив, — чуть не в истерике крикнул я, — то верю, что мое дело дойдет до Сталина и он меня освободит. А вы понесете заслуженное наказание за на рушение советских законов.
Тут Ждан приказал удалить меня из зала, и комедия суда на этом была закончена.
Меня опять поместили в каморку в полуподвальном помещении, где я сидел потрясенный, ожидая отправки в тюрьму.
Вдруг дверь отворилась, и на пороге появился Ждан:
— Вы имеете право в течение семидесяти двух часов опротестовать приговор. Я уверен, что Верховный суд его смягчит.
— Зачем вы тогда выносили такой тяжкий и несправедливый приговор? — ничего не понимая, спросил я.
— Вы давно сидите, отстали от жизни и не знаете теперешней политической обстановки, — разъяснил Ждан.
И еще раз сказал:
— Советую написать апелляцию.
— Я действительно не знаю положения в стране, но одно могу вам предсказать, — сказал я на прощание Ждану. — Когда-нибудь вы ответите за все, что делаете сейчас с нами.
Последовать совету Ждана, написать о помиловании или опротестовать приговор я не смог, после всего пережитого я был почти в невменяемом состоянии и не мог собраться с мыслями.
В период пребывания в тюрьме после суда в течение еще трех месяцев я тоже не смог написать апелляцию. Затем около двух месяцев продолжался этап.
Только по прибытии в Севжелдорлаг, в декабре 1940 года, я, наконец, собрался с мыслями и написал подробное заявление — на 25 страницах, которое через получившего освобождение товарища обычной почтой отправил в Москву жене, просил, чтобы она размножила это заявление и направила в ЦК т. Сталину, Верховный Совет т. Калинину, комиссии партконтроля — Шкирятову и в НКВД — Берии.
Жена размножила и разослала мое заявление всем указанным адресатам.
Страницы
предыдущая целиком следующая