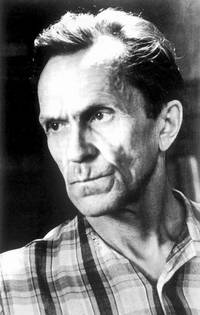- Зимой бы застилало паром.
- Но сейчас ведь не зима.
- И то верно. Сейчас уж не зима.
- Послушайте,-сказал я.-Я болен. Обессилел. Я много раз обращался в медпункт, но меня никогда не освобождали от работы.
- Напишите заявление. Это будет иметь значение для суда и следствия.
Я потянулся за ближайшей авторучкой - их множество, всяких размеров и фабричных марок, лежало на столе.
- Нет, нет, простой ручкой, пожалуйста.
- Хорошо.
Я написал: многократно обращался в амбулаторные зоны - чуть не каждый день. Писать было очень трудно - практики в этом деле у меня маловато.
Федоров разгладил бумажку.
- Не беспокойтесь. Все будет сделано по закону.
В тот же вечер замки моей камеры загремели, и дверь открылась. В углу на столике дежурного горела "колымка" - четырехлучевая бензиновая лампочка из консервной банки. Кто-то сидел у стола в полушубке, в шапке-ушанке.
- Подойди.
Я подошел. Сидевший встал. Это был доктор Мохнач, старый колымчанин, жертва тридцать седьмого года. На Колыме работал на общих работах, потом был допущен к врачебным обязанностям. Был воспитан в страхе перед начальством. У него на приемах в амбулатории зоны я бывал много раз.
- Здравствуйте, доктор.
- Здравствуй. Разденься. Дыши. Не дыши. Повернись. Нагнись. Можно одеваться.
Доктор Мохнач сел к столу, при качающемся свете "колымки" написал:
"Заключенный Шаламов В. Т. практически здоров. За время нахождения в "зоне" в амбулаторию не обращался.
Зав. амбулаторией врач Мохнач".
Этот текст мне прочли через месяц на суде.
Следствие шло к концу, а я никак не мог уразуметь, в чем меня обвиняют. Голодное тело ныло и радовалось, что не надо работать. А вдруг меня выпустят снова в забой? Я гнал эти тревожные мысли.
На Колыме лето наступает быстро, торопливо. В один из допросов я увидел горячее солнце, синее небо, услышал тонкий запах лиственницы. Грязный лед еще лежал в оврагах, но лето не ждало, пока растает грязный лед.
Допрос затянулся, мы что-то "уточняли", и конвойный еще не увел меня - а к избушке Федорова подводили другого человека. Этим другим человеком был мой бригадир Нестеренко. Он шагнул в мою сторону и глухо выговорил: "Был вынужден, пойми, был вынужден" - и исчез в двери федоровской избушки.
Нестеренко писал на меня заявление. Свидетелями были Заславский и Кривицкий. Но Нестеренко вряд ли когда-нибудь слышал о Бунине. И если Заславский и Кривицкий были подлецами, то Нестеренко спас меня от голодной смерти, взяв в свою бригаду. Я был там не хуже и не лучше любого другого рабочего. И не было у меня злобы против Нестеренко. Я слышал, что он в лагере третий срок, что он старый соловчанин. Он был очень опытным бригадиром - понимал не только работу, но и голодных людей - не сочувствовал, а именно понимал. Это дается далеко не каждому бригадиру. Во всех бригадах давали после ужина добавки - черпачок жидкого супа из остатков. Обычно бригадиры давали эти черпаки тем, кто лучше других поработал сегодня, - такой способ рекомендовался официально лагерным начальством. Раздаче добавок придавалась публичность, чуть ли не торжественность. Добавки использовались и в производственных и в воспитательных целях. Не всегда тот, кто работал больше всех, работал лучше всех. И не всегда лучший хотел есть юшку.
В бригаде Нестеренко добавки давали самым голодным - по соображению и по команде бригадира, разумеется.
Однажды в шурфе я выдолбил огромный камень. Мне было явно не под силу вытащить огромный валун из шурфа. Нестеренко увидел это, молча спрыгнул в шурф, выкайлил камень и вытолкнул его наверх...
Я не хотел верить, что он написал на меня заявление. Впрочем...
Говорили, что в прошлом году из этой же бригады ушли в трибунал два человека - Ежиков и через три месяца Исаев - бывший секретарь одного из сибирских обкомов партии. А свидетели были все те же - Кривицкий и Заславский. Я не обратил внимания на эти разговоры.
Вот тут подпишите. И вот тут.
Ждать пришлось недолго. Двадцатого июня двери распахнулись, и меня вывели на горячую коричневую землю, на слепящее, обжигающее солнце. - Получай вещи - ботинки, фуражку. В Ягодное пойдешь.
- Пойдешь?
Два солдата разглядывали меня внимательно.
- Не дойдет, - сказал один. - Не возьмем.
- То есть как это вы не возьмете, - сказал Федоров. - Я позвоню в опергруппу.
Солдаты эти не были настоящим конвоем, заказанным заранее, занаряженным. Два оперативника возвращались в Ягодное - восемнадцать верст тайгой - и попутно должны были доставить меня в Ягодинскую тюрьму.
- Ну, ты сам-то как? - говорил оперативник. - Дойдешь?
- Не знаю. - Я был совершенно спокоен. И торопиться мне некуда. Солнце было слишком горячим - обожгло щеки, отвыкшие от яркого света, от свежего воздуха. Я сел к дереву. Приятно было посидеть на улице, вдохнуть упругий замечательный воздух, запах зацветающего шиповника. Голова моя закружилась.
- Ну, пойдем.
Мы вошли в ярко-зеленый лес.
- Ты можешь идти быстрее?
- Нет.
Прошли бесконечное количество шагов. Ветки тальника хлестали по моему лицу. Спотыкаясь о корни деревьев, я кое-как выбрался на поляну.
- Слушай, ты, - сказал оперативник постарше. -Нам надо в кино в Ягодное. Начало в восемь часов. В клубе. Сейчас два часа дня. У нас за лето первый выходной день. За полгода кино в первый раз.
Я молчал.
Оперативники посовещались.
- Ты отдохни, - сказал молодой. Он расстегнул сумку. - Вот тебе хлеб белый. Килограмм. Ешь, отдохни - и пойдем. Если бы не кино - черт с ним. А то кино.
Я съел хлеб, вылизал крошки с ладони, лег к ручью и осторожно напился холодной и вкусной ручьевой воды. И потерял окончательно силы. Было жарко, хотелось только спать.
- Ну? Пойдешь? Я молчал.
Тогда они стали меня бить. Топтали меня, я кричал и прятал лицо в ладони. Впрочем, в лицо они не били - это были люди опытные.
Били меня долго, старательно. И чем больше они меня били, тем было яснее, что ускорить наше общее движение к тюрьме - нельзя.
Много часов брели мы по лесу и в сумерках вышли на трассу - шоссе, которое тянулось через всю Колыму, - шоссе среди скал и болот, двухтысячекилометровая дорога, вся построенная "от тачки и кайла", без всяких механизмов.
Я почти потерял сознание и едва двигался, когда был доставлен в ягодинский изолятор. Дверь камеры откинулась, открылась, и опытные руки дежурного дверью ВДАВИЛИ меня внутрь. Было слышно только частое дыхание людей. Минут через десять я попытался опуститься на пол и лег к столбу под нары. Еще через некоторое время ко мне подползли сидевшие в камере воры - обыскать, отнять что-нибудь, но их надежда на поживу была тщетной. Кроме вшей, у меня ничего не было. И под раздраженный рев разочарованных блатарей я заснул.
На следующий день в три часа вызвали меня на суд.
Было очень душно. Нечем было дышать. Шесть лет я круглые сутки был на чистом воздухе, и мне было нестерпимо жарко в крошечной комнате военного трибунала. Большая половина комнатушки в двенадцать квадратных метров была отдана трибуналу, сидевшему за деревянным барьером. Меньшая - подсудимым, конвою, свидетелям. Я увидел Заславского, Кривицкого и Нестеренку. Грубые некрашеные скамейки стояли вдоль стен. Два окна с частыми переплетами, по колымской моде, с мелкой ячеёй, будто в березовской избе Меншикова на картине Сурикова. В такой раме использовалось битое стекло - в этом-то и была конструкторская идея, учитывающая трудную перевозку, хрупкость и многое другое - например, стеклянные консервные банки, распиленные пополам в продольном направлении. Все это, конечно, заботы об окнах квартир начальства и учреждений. В бараках заключенных никаких стекол не было.
Свет в такие окна проникал рассеянный, мутный, и на столе у председателя трибунала горела электрическая лампа без абажура.
Суд был очень коротким. Председатель зачитал краткое обвинение - по пунктам. Опросил свидетелей - подтверждают ли они свои показания на предварительном следствии. Неожиданно для меня свидетелей оказалось не трое, а четверо - изъявил желание принять участие в моем процессе некто Шайлевич. С этим свидетелем я не встречался и не говорил ни разу в своей жизни - он был из другой бригады. Это не помешало Шайлевичу быстро отбарабанить положенное: Гитлер, Бунин... Я понял, что Федоров взял Шайлевича на всякий случай - если я неожиданно заявлю отвод Заславскому и Кривицкому. Но Федоров беспокоился напрасно.
- Вопросы к трибуналу есть?
- Есть. Почему с прииска Джелгала приезжает в трибунал уже третий обвиняемый по пятьдесят восьмой статье - а свидетели все одни и те же?
- Ваш вопрос не относится к делу.
Я был уверен в суровости приговора - убивать было традицией тех лет. Да еще суд в годовщину войны, 22 июня. Посовещавшись минуты три, члены трибунала - их было трое - вынесли "десять лет и пять лет поражения в правах"...
- Следующий!
В коридоре задвигались, застучали сапогами. На другой день меня перевели на пересылку. Началась не однажды испытанная мной процедура оформления нового личного дела - бесконечные отпечатки пальцев, анкеты, фотографирование. Теперь я уже назывался имярек, статья пятьдесят восемь, пункт десять, срок десять и пять поражения. Я уже не был литерником со страшной буквой "Т". Это имело значительные последствия и, может быть, спасло мне жизнь.
Я не знал, что стало с Нестеренко, с Кривицким. Ходили разговоры, что Кривицкий умер. А Заславский вернулся в Москву, стал членом Союза писателей, хоть и не писал в жизни ничего, кроме доносов. Я видел его издали. Дело все-таки не в Заславских, не в Кривицких. Сразу после приговора я мог убить доносчиков и лжесвидетелей. Убил бы их наверняка, если б вернулся после суда на Джелгалу. Но лагерный порядок предусматривает, чтоб вновь приговоренные никогда не возвращались в тот лагерь, откуда их привезли на суд.
1960
Эсперанто
Бродячий актер, актер-арестант, напомнил мне эту историю. После концерта лагерной культбригады главный актер, он же режиссер и театральный плотник, назвал фамилию Скоросеева.
Мозг мой обожгло, и я вспомнил пересылку тридцать девятого года, тифозный карантин и нас, пятерых, выдержавших, выстоявших все-все отправки, все этапы, все "выстойки" на морозе и все же пойманных лагерной сетью и выкинутых в безбрежность тайги.
Мы - пятеро - не узнали, не знали и не хотели знать друг о друге ничего, пока этап наш не дошел до того места, где нам нужно было работать и жить. Мы встретили новость этапа по-разному: один из нас сошел с ума, думая, что его ведут расстреливать, а его вели к жизни. Другой хитрил и почти перехитрил судьбу. Третий - я! - был человеком с Золота, равнодушным скелетом. Четвертый - мастер на все руки, семидесяти с лишком лет. Пятый был - "Скоросеев, - говорил он, привставая на цыпочки, чтобы заглянуть каждому в глаза. - Скоро сею... понимаете?"
Мне было все равно, а от каламбуров я был отучен навеки. Но мастер на все руки поддержал разговор:
- Кем ты работал?
- Агрономом в Наркомземе.
Начальник угольной разведки, принимавший этап, полистал "дело" Скоросеева.
- Гражданин начальник, я еще могу...
- Сторожем поставлю...
В разведке Скоросеев работал сторожем ревностно. Не отходил ни на минуту с поста - боялся, что любой оплошностью воспользуется товарищ - донесет, продаст, обратит внимание начальника. Лучше не рисковать.
Однажды целую ночь шла густая метель. Сменщик Скоросеева был галичанин Нарынский - русый военнопленный первой мировой войны, получивший срок за подготовку заговора для восстановления Австро-Венгрии и чуть-чуть гордившийся таким небывалым, редким делом среди туч "троцкистов" и "вредителей". Нарынский, принимая от Скоросеева дежурство, смеясь, показал, что Скоросеев даже в снег, в метель не сдвинулся со своего поста. Преданность была замечена. Скоросеев укреплялся.
В лагере пала лошадь. Это было не очень большой потерей - на Дальнем Севере лошади работают плохо. Но мясо! Мясо! Шкуру надо было снять, труп замерз в снегу. Мастеров и желающих не нашлось. Вызвался Скоросеев. Начальник удивился и обрадовался - шкура и мясо! Шкура к отчету, мясо - в котел. О Скоросееве говорил весь барак, весь поселок. Мясо, мясо! Труп лошади затащили в баню, и Скоросеев оттаял труп, снял с него шкуру, выпотрошил. Шкура застыла на морозе и была вынесена на склад. Мяса нам есть не пришлось - в последнюю минуту начальник передумал - ведь не было ветеринара, подписи на акте не было! Труп лошади порубили на куски, составили акт и сожгли на костре в присутствии начальника и прораба.
Угля, который искала наша разведка, не находилось. Понемногу - по пять, по десять человек - стали уходить из лагеря в этапы. Вверх по горе, по таежной тропе уходили эти люди из моей жизни навсегда.
Там, где мы жили, была все-таки разведка, не прииск, и каждый это понимал. Каждый стремился удержаться тут подольше. Каждый "тормозился" как мог. Один стал работать необычайно старательно. Другой - молиться дольше обычного. Тревога вошла в нашу жизнь.
Прибыл конвой. Из-за гор прибыл конвой. За людьми? Нет, конвой не увел, не увел никого!
Ночью в бараке был устроен обыск. У нас не было книг, не было ножей, не было химических карандашей, газет, бумаги, - что же искать?
Отбирали вольную одежду, вольную одежду - у многих вольная одежда была, - ведь в этой разведке работали и вольнонаемные и была разведка бесконвойной. Предупреждение побегов? Выполнение приказа? Перемена режима?
Все отбиралось без всяких протоколов, без записей. Отбиралось - и все! Возмущению не было конца. Я вспомнил, как два года назад в Магадане отбирали вольную одежду у сотен этапов, у сотен тысяч людей. Десятки тысяч меховых шуб, взятых на Север, на Дальний Север, несчастными заключенными, теплых пальто, свитеров, дорогих костюмов - дорогих, чтобы дать взятку когда-нибудь - спасти свою жизнь в решительный час. Но путь спасения был отрезан в магаданской бане. Горы вольной одежды были сложены на дворе магаданской бани. Горы были выше водонапорной башни, выше банной крыши. Горы теплой одежды, горы трагедий, горы человеческих судеб, которые обрывались внезапно и резко - всех выходящих из бани обрекая на смерть. Ах, как боролись все эти люди, чтобы уберечь свое добро от блатарей, от открытого разбоя в бараках, вагонах, транзитках. Все, что было спасено, утаено от блатарей, - было отобрано государством в бане. Как просто! Это было два года назад. И вот - снова.
Вольная одежда, что просочилась на прииски, настигалась позднее. Я вспомнил, как меня разбудили ночью, в бараке обыски шли ежедневно - ежедневно уводили людей. Я сидел на нарах и курил. Новый обыск - за вольной одеждой. У меня не было вольной одежды - все оставлено было в магаданской бане. Но у товарищей моих вольная одежда была. Это были драгоценные вещи - символ иной жизни, истлевшие, рваные, не чиненные - на починку не хватало ни времени, ни сил, - но все же родные.
Все стояли у своих мест и ждали. Следователь сидел около лампы и писал акт, акт обыска, изъятия - как это называется на лагерном языке.
Я сидел на нарах и курил, не волнуясь, не возмущаясь. С единственным желанием, чтобы обыск кончился скорее и можно было спать. Но я увидел, как наш дневальный, по фамилии Прага, рубил топором свой собственный костюм, рвал на куски простыни, кромсал ботинки.
- Только на портянки. Только портянками отдам.
- Возьмите у него топор, - закричал следователь.
Прага бросил топор на пол. Обыск остановился. Вещи, которые рвал, резал и уничтожал Прага, были его вещами, его собственными. Эти вещи не успели еще записать в акт. Прага, видя, что его не хватают за руки, превратил в тряпки всю свою вольную одежду на моих глазах. И на глазах следователя.
Это было год назад. И вот - снова.
Все были взволнованы, возбуждены, долго не засыпали.
- Никакой разницы между блатарями, которые нас грабят, и государством для нас нет, - сказал я. И все согласились со мной.
Сторож Скоросеев уходил на дежурство на свою смену часа на два раньше нас. Строем по два - как дозволяла таежная тропа - мы добрались до конторы злые, обиженные - наивное чувство справедливости живет в человеке очень глубоко и, может быть, неискоренимо. Казалось бы, что обижаться? Злиться? Возмущаться? Ведь это тысячный пример - этот проклятый обыск. На дне души что-то клокотало, сильнее воли, сильнее жизненного опыта. Лица арестантов были темными от гнева.
На крыльце конторы стоял сам начальник Виктор Николаевич Плуталов. У начальника было тоже темное от гнева лицо. Наша крошечная колонна остановилась перед конторой, и сейчас же меня вызвали в кабинет Плуталова.
- Так ты говоришь, - покусывая губы, посмотрел на меня Плуталов исподлобья, с трудом, неудобно усаживаясь на табуретку за письменным столом, - что государство хуже блатарей?
Я молчал. Скоросеев! Нетерпеливый человек, господин Плуталов не замаскировал своего стукача, не подождал часа два! Или тут дело в чем-то другом?
- Мне нет дела до ваших разговоров. Но если мне доносят, или как это по-вашему? дуют?
- Дуют, гражданин начальник.
- А может быть, стучат?
- Стучат, гражданин начальник.
Страницы
предыдущая целиком следующая