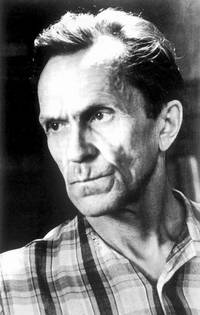- Гришка, воды! - закричал я. - И пожрать чего-нибудь после ванны.
Но я плохо знал доктора Доктора. Комиссии, проверки сыпались на отделение чуть не каждый день.
А в ожидании приезда высшего начальства доктор Доктор сходил с ума.
Доктор Доктор добрался бы до меня, да другие вольные начальники сгубили его карьеру, подставили ножку, выперли с хорошей должности.
Внезапно доктор Доктор был отпущен в отпуск на материк, хотя никогда в отпуск не просился. Приехал вместо него другой начальник.
Прощальный обход. Новый начальник грузен, ленив, тяжело дышит. Хирургическое отделение на втором этаже - быстро шли, запыхались. Увидев меня, доктор Доктор не мог отказать себе в развлечении.
- Вот это та самая контрреволюция, о которой я тебе внизу говорил, - показывая на меня пальцем, громко говорил доктор Доктор. - Все собирался снять, не успел. Советую тебе сделать это немедленно, сразу же. Больничный воздух будет чище.
- Постараюсь, - равнодушно сказал толстый начальник, и я понял, что он ненавидит доктора Доктора не меньше, чем я.
1964
Букинист
Из ночи я был переведен в день - явное повышение, утверждение, удача на опасном, но спасительном пути санитара из больных. Я не заметил, кто занял мое место, - сил для любопытства у меня не оставалось в те времена, я берег каждое свое движение, физическое или душевное - как-никак мне уже приходилось воскресать, и я знал, как дорого обходится ненужное любопытство.
Но краем глаза в ночном полусне я увидел бледное грязное лицо, заросшее густой рыжей щетиной, провалы глаз, глаз неизвестного цвета, скрюченные отмороженные пальцы, вцепившиеся в дужку закопченного котелка. Барачная больничная ночь была так темна и густа, что огонь бензинки, колеблемый, сотрясаемый будто бы ветром, не мог осветить коридор, потолок, стену, дверь, пол и вырывал из темноты только кусочек всей ночи: угол тумбочки и склонившееся над тумбочкой бледное лицо. Новый дежурный был одет в тот же халат, в котором дежурил я, грязный рваный халат, расхожий халат для больных. Днем этот халат висел в больничной палате, а ночью напяливался на телогрейку дежурного санитара из больных. Фланель была необычайно тонкой, просвечивала - и все же не лопалась; больные боялись или не могли сделать резкое движение, чтобы халат не распался на части.
Полукруг света раскачивался, колебался, менялся. Казалось, холод, а не ветер, не движение воздуха, а сам холод качает этот свет над тумбочкой дежурного санитара. В световом пятне качалось лицо, искаженное голодом, грязные скрюченные пальцы нашаривали на дне котелка то, чего нельзя было поймать ложкой. Пальцы, даже отмороженные, нечувствительные пальцы, были надежнее ложки - я понял суть движения, язык жеста.
Все это мне было не надо знать - я ведь был дневной санитар.
Но через несколько дней - поспешный отъезд, неожиданное ускорение судьбы внезапным решением - и кузов грузовика, сотрясающегося от каждого рывка автомашины, ползущей по вымерзшему руслу безымянной речки, по таежному зимнику ползущей к Магадану, к югу. В кузове грузовика взлетают и ударяются о дно с деревянным стуком, перекатываются, как деревянные поленья, два человека. Конвоир сидит в кабине, и я не знаю - ударяет меня дерево или человек. На одной из кормежек жадное чавканье соседа показалось мне знакомым, и я узнал скрюченные пальцы, бледное грязное лицо.
Мы не говорили друг с другом - каждый боялся спугнуть свое счастье, арестантское счастье. Машина спешила - дорога кончилась в одни сутки.
Мы оба ехали на фельдшерские курсы, по лагерному наряду. Магадан, больница, курсы - все это было как в тумане, в белой колымской мгле. Есть ли вехи, дорожные вехи? Принимают ли пятьдесят восьмую? Только десятый пункт. А у моего соседа по кузову машины? Тоже десятый - "аса". Литер: "антисоветская агитация". Приравнивается к десятому пункту.
Экзамен по русскому языку. Диктант. Отметки выставляют в тот же день. Пятерка. Письменная работа по математике - пятерка. Устное испытание по математике - пятерка. От тонкости "Конституции СССР" будущие курсанты избавлены - это все знали заранее... Я лежал на нарах, грязный, все еще подозрительно вшивый - работа санитаром не уничтожала вшей, а может быть, мне это только казалось, вшивость - это один из лагерных психозов. Давно уж нет вшей, а никак не заставишь себя привыкнуть не к мысли (что мысль?), к чувству, что вшей больше нет; так было в моей жизни и дважды и трижды. А Конституция, или история, или политэкономия - все это не для нас. В Бутырской тюрьме, еще во время следствия, дежурный корпусной кричал: "Что вы спрашиваете о Конституции? Ваша Конституция - это Уголовный кодекс". И корпусной был прав. Да, Уголовный кодекс был нашей конституцией. Давно это было. Тысячу лет назад. Четвертый предмет - химия. Отметка - тройка.
Ах, как рванулись заключенные-курсанты к знаниям, где ставкой была жизнь. Как бывшие профессора медицинских институтов рванулись вдалбливать спасительную науку в неучей, в болванов, никогда не интересовавшихся медициной, - от кладовщика Силайкина до татарского писателя Мин Шабая...
Хирург, кривя тонкие губы, спрашивает:
- Кто изобрел пенициллин?
- Флеминг! - Это отвечаю не я, а мой сосед по районной больнице. Рыжая щетина сбрита. Нездоровая бледная пухлость щек осталась (навалился на суп - мельком соображаю я).
Я был поражен знаниями рыжего курсанта. Хирург разглядывал торжествующего "Флеминга". Кто же ты, ночной санитар? Кто?
- Кем же ты был на воле?
- Я капитан. Капитан инженерных войск. В начале войны был начальником укрепленного района. Строили мы укрепления спешно. Осенью сорок первого года, когда рассеялась утренняя мгла, мы увидели в бухте рейдер немецкий "Граф фон Шпее". Рейдер расстрелял наши укрепления в упор. И ушел. А мне дали десять лет.
"Не веришь, прими за сказку". Верю. Знаю обычай.
Все курсанты занимались ночи напролет, впитывая, вбирая знания со всей страстью приговоренных к смерти, которым вдруг дают надежду жить.
Но Флеминг, после какого-то делового свидания с начальством, повеселел, приволок на занятия в барак роман и, поедая вареную рыбу - остатки чьего-то чужого пира, небрежно листал книгу.
Поймав мою ироническую улыбку, Флеминг сказал:
- Все равно - мы учимся уже три месяца, всех, кто удержался на курсах, всех выпустят, всем дадут дипломы. Зачем я буду сходить с ума? Согласись!..
- Нет, - сказал я. - Я хочу научиться лечить людей. Научиться настоящему делу.
- Настоящее дело - жить.
В этот час выяснилось, что капитанство Флеминга - только маска, еще одна маска на этом бледном тюремном лице. Капитанство-то не было маской - маской были инженерные войска. Флеминг был следователем НКВД в капитанском чине. Сведения отцеживались, копились по капле - несколько лет. Капли эти мерили время подобно водяным часам. Или эти капли падали на голое темя подследственного - водяные часы застенков Ленинграда тридцатых годов. Песочные часы отмеряли время арестантских прогулок, водяные часы - время признания, время следствия. Торопливость песочных часов, мучительность водяных. Водяные часы считали не минуты, отмеряли не минуты, а человеческую душу, человеческую
волю, сокрушая ее по капле, подтачивая, как скалу, - по пословице. Этот следовательский фольклор был в большом ходу в тридцатые, а то и в двадцатые годы.
По капле были собраны слова капитана Флеминга, и клад оказался бесценным. Бесценным его считал и сам Флеминг - еще бы!
- Ты знаешь, какая самая большая тайна нашего времени?
- Какая?
- Процессы тридцатых годов. Как их готовили. Я ведь был в Ленинграде тогда. У Заковского. Подготовка процессов - это химия, медицина, фармакология. Подавление воли химическими средствами. Таких средств - сколько хочешь. И неужели ты думаешь, если средства подавления воли есть - их не будут применять. Женевская конвенция, что ли?
Обладать химическими средствами подавления воли и не применять их на следствии, на "внутреннем фронте" - это уж чересчур человечно. Поверить в сей гуманизм в двадцатом веке невозможно. Здесь и только здесь тайна процессов тридцатых годов, открытых процессов, открытых и иностранным корреспондентам, и любому Фейхтвангеру. На этих процессах не было никаких двойников. Тайна процессов была тайной фармакологии.
Я лежал на коротких неудобных нарах двухспальной системы в опустевшем курсантском бараке, простреливавшемся лучами солнца насквозь, и слушал эти признания.
Опыты были и раньше - во вредительских процессах, например. Рамзинская же комедия только краем касается фармакологии.
Капля по капле сочился рассказ Флеминга - собственная ли его кровь капала на обнаженную мою память? Что это были за капли - крови, слез или чернил? Не чернил и не слез.
- Были, конечно, случаи, когда медицина бессильна. Или в приготовлении растворов неверный расчет. Или вредительство. Тогда - двойной страховкой. По правилам.
- Где же теперь эти врачи?
- Кто знает? На луне, вероятно...
Следственный арсенал - это последнее слово науки, последнее слово фармакологии.
Это был не шкаф "А" - Venena - яды, и не шкаф "В" - Heroica - "сильно действующие"... Оказывается, латинское слово "герой" на русский язык переводится как "сильно действующий". А где хранились медикаменты капитана Флеминга? В шкафу "П" - в шкафу преступлений или в шкафу "Ч" - чудес.
Человек, который распоряжался шкафом "П" и шкафом "Ч" высших достижений науки, только на фельдшерских лагерных курсах узнал, что у человека печень - одна, что печень - не парный орган. Узнал про кровообращение - через триста лет после Гарвея.
Тайна пряталась в лабораториях, подземных кабинетах, вонючих вивариях, где звери пахли точно так же, как арестанты грязной магаданской транзитки в тридцать восьмом году. Бутырская тюрьма по сравнению с этой транзиткой блистала чистотой хирургической, пахла операционной, а не виварием.
Все открытия науки и техники проверяются в первую очередь в их военном значении - военном - даже в будущем, в возможности догадки. И только то, что отсеяно генералами, что не нужно войне, отдается на общее пользование.
Медицина и химия, фармакология давно на военном учете. В институтах мозга во всем мире всегда копился опыт эксперимента, наблюдения. Яды Борджиа всегда были оружием практической политики. Двадцатый век принес необычайный расцвет фармакологических, химических средств, управляющих психикой.
Но если можно уничтожить лекарством страх, то тысячу раз возможно сделать обратное - подавить человеческую волю уколами, чистой фармакологией, химией без всякой "физики" вроде сокрушения ребер и топтания каблуками, зубодробительства и тушения папирос о тело подследственного.
Химики и физики - так назывались эти две школы следствия. Физики - это те, что во главу угла полагали чисто физическое действие, видя в побоях средство обнажения нравственного начала мира. Обнаженная глубина человеческой сути - и какой же подлой и ничтожной оказывалась эта человеческая суть. Битьем можно было не только добиться любых показаний. Под палкой изобретали, открывали новое в науке, писали стихи, романы. Страх побоев, желудочная шкала пайки творили большие дела.
Битье достаточно веское психологическое орудие, достаточно эффектное.
Много пользы давал и знаменитый повсеместный "конвейер", когда следователи менялись, а арестанту не давали спать. Семнадцать суток без сна - и человек сходит с ума - не из следственных ли кабинетов почерпнуто это научное наблюдение.
Но и химическая школа не сдавалась.
Физики могли обеспечить материалом "особые совещания", всяческие "тройки", но для открытых процессов школа физического действия не годилась. Школа физического действия (так, кажется, у Станиславского) не смогла бы поставить открытый кровавый театральный спектакль, не могла бы подготовить "открытые процессы", которые привели в трепет все человечество. Химикам подготовка таких зрелищ была по силам.
Через двадцать лет после того разговора я вписываю в рассказ строки газетной статьи:
"Применяя некоторые психофармакологические агенты, можно на определенное время полностью устранить, например, чувство страха у человека. При этом, что особенно важно, нисколько не нарушается ясность его сознания...
Затем вскрылись еще более неожиданные факты. У людей, у которых "Б-фазы" сна подавлялись длительно, в данном случае на протяжении до семнадцати ночей подряд, начинали возникать различные расстройства психического состояния и поведения".
Что это? Обрывки показаний какого-нибудь бывшего начальника управления НКВД на процессе суда над судьями?.. Предсмертное письмо Вышинского или Рюмина? Нет, это абзацы научной статьи действительного члена Академии наук СССР. Но ведь все это - и в сто раз больше! - известно, испытано и применено в тридцатых годах при подготовке "открытых процессов".
Фармакология была не единственным оружием следственного арсенала этих лет. Флеминг назвал фамилию, которая была мне хорошо известна.
Орнальдо!
Еще бы: Орнальдо был известный гипнотизер, много выступавший в двадцатые годы в московских цирках, да и не только московских. Массовый гипноз - специальность Орнальдо. Есть фотографии его знаменитых гастролей. Иллюстрации в книжках по гипнозу. Орнальдо - это псевдоним, конечно. Настоящее имя его Смирнов Н. А. Это - московский врач. Афиши вокруг всей вертушки - тогда афиши расклеивались на круглых тумбах, - фотографии. У Свищева-Паоло фотография была тогда в Столешниковом переулке. В витрине висела огромная фотография человеческих глаз и подпись "Глаза Орнальдо". Я помню эти глаза до сих пор, помню то душевное смятение, в которое приходил я, когда слышал или видел цирковые выступления Орнальдо. Гипнотизер выступал до конца двадцатых годов. Есть бакинские фотографии выступлений Орнальдо 1929 года. Потом он перестал выступать.
- С начала тридцатых годов Орнальдо - на секретной работе в НКВД.
Холодок разгаданной тайны пробежал у меня по спине.
Часто без всякого повода Флеминг хвалил Ленинград. Верней, признал, что он - не коренной ленинградец. Действительно, Флеминг был вызван из провинции эстетами НКВД двадцатых годов, как достойная смена эстетам. Ему были привиты вкусы - шире обычного школьного образования. Не только Тургенев и Некрасов, но и Бальмонт и Сологуб, не только Пушкин, но и Гумилев.
- "А вы, королевские псы, флибустьеры, хранившие золото в темном порту?" Я не путаю?
- Нет, все правильно!
- Дальше не помню. Я - королевский пес? Государственный пес?
И улыбаясь - себе и своему прошлому - рассказал с благоговением, как рассказывает пушкинист о том, что держал в руках гусиное перо, которым написана "Полтава", - он прикасался к папкам "дела Гумилева", назвав его заговором лицеистов. Можно было подумать, что он коснулся камня Каабы - такое блаженство, такое очищение было в каждой черте его лица, что я невольно подумал - это тоже путь приобщения к поэзии. Удивительная, редчайшая тропка постижения литературных ценностей в следственном кабинете. Нравственные ценности поэзии таким путем, конечно, не постигаются.
- В книгах я прежде всего читаю примечания, комментарии. Я человек примечаний, человек комментариев.
- А текст?
- Не всегда. Когда есть время.
Для Флеминга и его сослуживцев приобщение к культуре могло быть - как ни кощунственно это звучит - только в следственной работе. Знакомство с людьми литературной и общественной жизни, искаженное и все-таки чем-то настоящее, подлинное, не скрытое тысячей масок.
Так, главным осведомителем по художественной интеллигенции тех лет, постоянным, вдумчивым, квалифицированным автором всевозможных "меморандумов" и обзоров писательской жизни был - и имя это было неожиданно только на первый взгляд - генерал-майор Игнатьев. Пятьдесят лет в строю. Сорок лет в советской разведке.
- Я эту книгу "Пятьдесят лет в строю" прочитал уже тогда, когда познакомился с обзорами и был представлен самому автору. Или он мне был представлен, - задумчиво говорил Флеминг.-Неплохая книга "Пятьдесят лет в строю".
Флеминг не очень любил газеты, газетные известия, радиопередачи. Международные события мало его занимали. Другое дело - события внутренней жизни. Главное чувство Флеминга - темная обида на мрачную силу, которая обещала гимназисту объять необъятное, вознесла высоко и вот бросила в бездну без стыда или без следа, - я никак не мог запомнить правильное окончание знаменитой песни моего детства "Шумел, горел пожар московский".
Приобщение к культуре было своеобразным. Курсы какие-то краткосрочные, экскурсия в Эрмитаж. Человек рос, и вырос следователь-эстет, шокированный грубой силой, хлынувшей в "органы" в тридцатые годы, сметенный, уничтоженный "новой волной", исповедующей грубую физическую силу, презирающей не только психологические тонкости, но даже "конвейеры" или "выстойки". У новой волны просто терпения не хватало на какие-то научные расчеты, на высокую психологию. Результаты, оказывается, проще получить обыкновенным битьем. Медлительные эстеты сами пошли "на луну". Флеминг случайно остался в живых. Новой волне было некогда ждать.
Голодный блеск затухал в глазах Флеминга, и профессиональная наблюдательность вновь подавала свой голос...
- Слышь, я смотрел на тебя во время конференции. Ты думал о своем.
- Я хочу только все запомнить, запомнить и описать. Какие-то картины качались в мозгу Флеминга, уже отдохнувшем, уже успокоенном.
В нервном отделении, где работал Флеминг, был гигант латыш, получавший вполне официально тройной паек. Всякий раз, когда гигант принимался за еду, Флеминг садился напротив, не умея сдержать восхищения перед могучей жратвой.
Флеминг не расставался с котелком, тем самым котелком, с которым приехал с Севера... Это - талисман. Колымский талисман.
В нервном отделении блатари поймали кошку, убили и сварили, угостив Флеминга как дежурного фельдшера, - традиционная "лапа" - взятка колымская, колымский калым. Флеминг съел мясо и ничего не сказал о кошке. Это была кошка из хирургического отделения.
Курсанты боялись Флеминга. Но кого не боялись курсанты? В больнице Флеминг работал уже фельдшером, штатным лепилой. Все были к нему враждебны, опасались Флеминга, чувствуя в нем не просто работника органов, но хозяина какой-то необычайно важной, страшной тайны.
Враждебность увеличилась, тайна сгустилась после внезапной поездки Флеминга на свидание с молодой испанкой. Испанка была самая настоящая, дочь кого-то из членов правительства Испанской республики. Разведчица, запутанная в сеть провокаций, получившая срок и выброшенная на Колыму умирать. Но Флеминг, оказывается, не был забыт своими старыми и далекими друзьями, своими прежними сослуживцами. Что-то он должен был узнать от испанки, что-то подтвердить. А больная не ждет. Испанка поправилась и была этапирована на женский прииск. Флеминг внезапно, прервав работу в больнице, едет на свидание с испанкой, двое суток скитается на автомобильной трассе тысячеверстной, по которой потоком идут машины и стоят заставы оперативников через каждый километр. Флемингу везет, он возвращается после свидания вполне благополучно. Поступок казался бы романтическим, свершенным во имя лагерной любви. Увы, Флеминг не путешествует ради любви, не совершает героических поступков ради любви. Тут действует сила гораздо большая, чем любовь, высшая страсть, и эта сила пронесет Флеминга невредимым через все лагерные заставы.
Много раз вспоминал Флеминг тридцать пятый год - внезапный поток убийств. Смерть семьи Савинкова. Сын был расстрелян, а семья - жена, двое детей, мать жены не захотели уехать из Ленинграда. Все оставили письма - предсмертные письма друг другу. Все покончили с собой, и память Флеминга сохранила строки из детской записки: "Бабушка, мы скоро умрем".
В пятидесятом году Флеминг кончил срок по "делу НКВД", но в Ленинград не вернулся. Не получил разрешения. Жена, хранившая много лет "площадь", приехала в Магадан из Ленинграда, но не устроилась и уехала обратно. Перед двадцатым съездом Флеминг вернулся в Ленинград, в ту самую комнату, в которой жил до катастрофы...
Бешеные хлопоты. Тысяча четыреста пенсия по выслуге лет. Вернуться к работе "по специальности" знатоку фармакологии, обогащенной ныне фельдшерским образованием, не пришлось. Оказалось, все старые работники, все ветераны сих дел, все оставшиеся в живых эстеты уволены на пенсию. До последнего курьера.
Флеминг поступил на службу - отборщиком книг в букинистическом магазине на Литейном. Флеминг считал себя плотью от плоти русской интеллигенции, хотя и состоящей с интеллигенцией в столь своеобразном родстве и общении. Флеминг до конца не хотел отделять свою судьбу от судьбы русской интеллигенции, чувствуя, может быть, что только общение с книгой сохранит нужную квалификацию, если удастся дожить до лучших времен.
Во времена Константина Леонтьева капитан инженерных войск ушел бы в монастырь. Но и мир книг - опасный и возвышенный мир - служение книге окрашено в фанатизм, но, как всякое книжное любительство, содержит в себе нравственный элемент очищения. Не в вахтеры же идти бывшему поклоннику Гумилева и знатоку комментариев к стихам и судьбе Гумилева. Фельдшером - по новой специальности? Нет, лучше букинистом.
- Я хлопочу, все время хлопочу. Рому!
- Я не пью.
- Ах, как это неудачно, неудобно, что ты не пьешь. Катя, он не пьет! Понимаешь? Я хлопочу. Я еще вернусь на свою работу.
- Если ты вернешься на свою работу, - синими губами выговорила Катя, жена, - я повешусь, утоплюсь завтра же.
- Я шучу. Я все время шучу. Я хлопочу. Я все время хлопочу. Подаю какие-то заявления, сутяжничаю, езжу в Москву. Ведь меня в партии восстановили. Но как?
Из-за пазухи Флеминга извлечены груды измятых листков.
- Читай. Это - свидетельство Драбкиной. Она у меня на Игарке была.
Я пробежал глазами пространное свидетельство автора "Черных сухарей".
Страницы
предыдущая целиком следующая