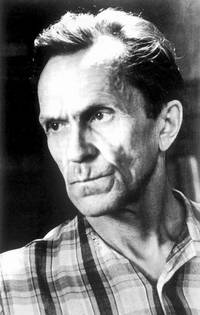- Я - Тимошенко.
- Вижу, что Тимошенко.
- Ты меньше разговаривай, - сказал десятник. - Не пробовал еще моего термометра - попробуешь. Иди, давай пар. - И, оттолкнув банщика, Тимошенко вошел в баню. Черный влажный мрак наполнял шахтерскую баню. Черные закопченные потолки, черные шайки, черные лавки вдоль стен, черные окна. В бане было темно и сухо, как в шахте, и шахтерская лампа "вольфа" с треснутым стеклом висела, воткнутая крючком в столб посреди бани, как в шахтную стойку.
Мишка быстро разделся, выбрал неполную бочку холодной воды, завел туда паровую трубу - в помещении бани был бойлер, и воду грели горячим паром.
Костлявый банщик смотрел с порога на розовое, пышное тело Тимошенко и молчал.
- Я вот так люблю, - сказал Тимошенко, - чтобы парок был живой. Ты воду нагреешь немного, я в бочку залезу, и ты пускай пар помалу. Хорошо будет, я постучу по трубе, и ты пар выключай. Прежний-то банщик, одноглазый, все мои привычки знал. Где он?
- Не знаю, - ответил костлявый. Ключицы банщика натягивали гимнастерку.
- А ты откуда?
- Из изолятора.
- Ты Чудаков, что ли?
- Да, Чудаков.
- Не узнал тебя. Богатым будешь, - засмеялся десятник.
- Это я в изоляторе так доплыл - вот ты и не узнаешь! Слышь, Мишка, - сказал Чудаков, - а ведь я видел тебя...
- Где?
- А за мостом. Слышал, что ты там уполномоченному пел...
- Каждый сам себя спасает, - сказал Тимошенко. - Закон тайги. Время военное. А ты - дурак. Дурак ты, Чудаков. Дурак, и уши холодные. Такое принял из-за этого черта Андреева.
- Ну, это уж мое дело, - сказал банщик и вышел. Пар загремел, забурлил в бочке, вода согрелась. Мишка постучал - Чудаков выключил пар.
Мишка влез на скамейку и со скамейки перевалился в узкую высокую бочку... Были бочки пониже, пошире, но десятник любил париться именно в этой. Вода достигала Мишке до горла. Жмурясь от удовольствия, десятник постучал по трубе. Сейчас же забурлил пар. Стало тепло. Мишка просигналил банщику, но горячий пар продолжал хлестать в трубу. Пар обжигал тело, и Тимошенко испугался, застучал еще, пытаясь вырваться, выскочить из бочки, но бочка была узка, железная труба мешала лезть - в бане ничего не было видно из-за белого, клокочущего, густеющего пара, и Мишка закричал диким голосом.
Баня для рабочих в этот день не состоялась.
Когда открыли двери и окна, густой мутно-белый туман рассеялся - пришел лагерный врач. Тимошенко уже не дышал - он был сварен заживо.
Чудакова из банщиков перевели куда-то, вернулся одноглазый - его никто не снимал с работы, просто он был один день на группе "В" - временно освобожден от работы по болезни. У него была температура.
1959
Май
Днище деревянной бочки было выбито и заделано решеткой из полосового железа. В бочке сидел пес Казбек. Сотников кормил Казбека сырым мясом и просил всех прохожих тыкать в собаку палкой. Казбек рычал и грыз палку в щепы. Прораб Сотников воспитывал злобу в будущем цепном псе.
Золото всю войну мыли лотками - старательской добычей, ранее запрещенной на приисках. Раньше лотком мог мыть только промывальщик из службы разведки. Суточный план давался до войны в кубометрах грунта, а во время войны - в граммах металла.
Однорукий лоточник ловко нагребал грунт на лоток скребком и, намыв воды, осторожно встряхивал лоток над ручьем, сбывая в ручей размытый в лотке камень. На дне лотка, когда сбегала вода, оставалась золотая крупинка, и, положив лоток на землю, рабочий ногтем поддевал крупинку и переносил ее на клочок бумаги. Бумага складывалась, как аптечный порошок. Целая бригада одноруких саморубов зимой и летом "мыла" золото. И сдавала крупинки металла, зернышки золота в приисковую кассу. За это одноруких кормили.
Следователь Иван Васильевич Ефремов поймал таинственного убийцу, которого искали больше недели. Неделю назад в избушке геологоразведчиков, километрах в восьми от поселка, были зарублены топором четыре взрывника. Украдены были хлеб и махорка, деньги не найдены. Прошла неделя, и в рабочей столовой татарин из плотничьей бригады Русланова выменял вареную рыбу на щепотку махорки. Махорки на прииске не было с начала войны - привозили "аммонал", зеленый самосад невероятной крепости, пытались выращивать табак. Махорка была только у вольняшек. Татарин был арестован и во всем признался и даже показал место в лесу, куда он закинул в снег окровавленный топор. Ивану Васильевичу Ефремову выходила большая награда.
Случилось так, что Андреев был соседом по нарам этого татарина - самого обыкновенного голодного парнишки, "фитиля". Арестовали и Андреева. Через две недели его выпустили, - за это время было много новостей - Колька Жуков зарубил ненавистного бригадира Королева. Этот бригадир бил Андреева ежедневно на глазах у всей бригады, бил беззлобно, не спеша, и Андреев боялся его.
Андреев ощупал в кармане бушлата обломок пайки белого американского хлеба, оставшийся от обеда. Была тысяча способов продлить наслаждение пищей. Можно было лизать этот хлеб, пока он не исчезнет с ладони; можно было отщипывать от него крошки, мельчайшие крошки, и сосать каждую крошку, ворочая ее во рту языком. Можно было поджарить на печке, всегда топящейся, подсушить этот хлеб и есть темно-коричневые, обожженные кусочки хлеба - еще не сухари, но и не хлеб. Можно было резать хлеб ножом на тончайшие пластины и только тогда подсушивать их. Можно было заварить хлеб горячей водой, вскипятить его, размешать и превратить в горячий суп, в мучную болтушку. Можно было крошить кусочки в холодную воду и солить их - получалось нечто вроде тюри. Все это надо было успеть сделать за те четверть часа, что оставались у Андреева из обеденного перерыва. Андреев доедал хлеб по-своему. В маленькой консервной банке кипятилась вода, пресная снеговая вода, грязная от попавших в банку мельчайших углей или стланиковой хвои. В белый крутой кипяток Андреев совал свой хлеб и ждал. Хлеб раздувался, как губка, белая губка. Палочкой, щепкой Андреев отрывал горячие кусочки губки и вкладывал их в рот. Размокший хлеб исчезал во рту мгновенно.
Никто не обращал внимания на андреевские затеи. Он был одним из сотен тысяч колымских "фитилей", "доходяг", чей разум давно уже пошатнулся.
Каша была тоже по лендлизу - американская овсянка с сахаром. И хлеб был по лендлизу - из канадской муки с примесью костей и риса. Хлеб выпекали необыкновенно пышный, и ни один раздатчик не рисковал готовить пайки с вечера - каждая "двухсотка" теряла за ночь в весе десять - пятнадцать граммов, и самый честный хлеборез мог оказаться жуликом помимо воли. У белого хлеба почти не было отбросов - человеческий организм выкидывал лишнее лишь раз в несколько дней.
Суп, первое блюдо, тоже было по лендлизу - запах свиной тушенки и мясные волокна, похожие на туберкулезные палочки под микроскопом, попадались в обеденных мисках каждому.
Была, говорят, еще колбаса, консервированная колбаса, но для Андреева она оставалась легендой, как и сгущенное молоко "Альфа" - которое многие помнили еще по детству, по посылкам "Ара". Фирма "Альфа" все еще существовала.
По лендлизу были и красные кожаные ботинки на толстой клеевой подошве. Эти кожаные ботинки выдавали только начальству - даже не всякий горный мастер мог приобрести импортную обувь. Приисковому начальству шли и гарнитуры в коробках - костюмы, пиджаки и рубашки с галстуками.
Говорят, выдавали и шерстяные вещи, собранные среди населения Америки, но до заключенных они не доходили - жены начальства прекрасно разбирались в качестве материала.
Зато до заключенных хорошо доходил инструмент. Инструмент был тоже по лендлизу - гнутые американские лопаты с короткими крашеными ручками. Лопаты были подбористы - над самой формой лопатй кто-то думал. Лопатами все были довольны. Крашеные черенки от лопат поотбивали и сделали новые, прямые и длинные - каждому по мерке - конец черенка должен был доставать до подбородка.
Кузнецы чуть-чуть развернули нос лопаты, подточили их - и вышел славный инструмент.
Топоры американские были очень плохи. Это были не топоры, а топорики, вроде майн-ридовских индейских томагавков, и для серьезной плотничьей работы не годились. На плотников наших топоры по лендлизу произвели сильное впечатление - тысячелетний инструмент, очевидно, отмирал.
Поперечные пилы были тяжелыми, толстыми и неудобными в работе.
Зато великолепен был солидол, белый, как сливочное масло, без запаха. Блатари сделали попытку продавать солидол вместо сливочного масла, но на прииске уже некому было сливочное масло покупать.
"Студебеккеры", полученные по лендлизу, носились взад и вперед по кручам Колымы. Это была единственная машина на Дальнем Севере, которую не затрудняли подъемы. Огромные "даймонды", полученные тоже по лендлизу, тащили девяностотонный груз.
Мы лечились по лендлизу - медикаменты были американские, и впервые появился чудодейственный на первых порах сульфидин. Лабораторная посуда была подарком Америки. Рентгеновские аппараты, резиновые грелки и пузыри...
О том, что белому американскому хлебу скоро конец, говорили еще в прошлом году после Курской дуги, но Андреев не прислушивался к этим лагерным "парашам". Что будет, то будет. Прошла еще одна зима, а он все еще жив, он, не загадывавший никогда дальше сегодняшнего вечера.
Черняшка будет скоро, черняшка. Черный хлеб. Наши к Берлину идут.
- Черный здоровее, - врачи говорили.
- Американцы-то дураки, верно.
На будущем этом прииске не было ни одного радиоприемника.
"Инфекция убийства", как говорил Воронов, - вспомнил Андреев. Убийство заразительно. Если убивают где-либо бригадира - сразу же находятся подражатели, и бригадиры находят людей, которые дежурят, пока бригадир спит, охраняют бригадирский сон. Но все напрасно. Одного зарубили, второму разбили голову ломом, третьему перепилили шею двуручной пилой...
Всего месяц назад Андреев сидел у костра - была его очередь греться. Смена кончалась, костер затухал, и четверо очередных арестантов сидели по четырем сторонам, окружая костер, согнувшись и протянув руки к угасающему пламени, к уходящему теплу. Каждый голыми руками почти касался рдеющих углей, отмороженными, нечувствительными пальцами. Белая мгла наваливалась на плечи, плечи и спину знобило, и тем сильнее было желание прижаться к огню костра, и страшно было разогнуться, взглянуть в сторону, и не было сил встать и уйти на свое место, каждому в свой шурф, где они бурили, бурили... Не было сил встать и уйти от бригадира, который уже подходил к ним.
Андреев лениво соображал, чем будет бить бригадир, если полезет драться. Головней, очевидно, или камнем... скорей всего головней...
Бригадир был уже шагах в десяти от костра. Вдруг из шурфа близ тропы, где шел бригадир, выполз человек с ломом в руках. Человек этот догнал бригадира и замахнулся ломом. Бригадир упал лицом вперед. Человек бросил лом в снег и пошел мимо костра, где сидел Андреев с тремя другими рабочими. Он пошел к большому костру, около которого грелись конвойные.
Андреев не переменил позы во время убийства. Никто из четырех не двинулся с места, не был в силах отойти от костра, от ускользающего тепла. Каждый хотел сидеть до самого конца, до той минуты, когда прогонят. Но гнать было некому - бригадира убили, - и Андреев был счастлив, как и его сегодняшние товарищи.
Последним усилием своего бедного голодного мозга, иссушенного мозга, Андреев понимал, что надо искать какой-то выход. Разделить судьбу одноруких лоточников Андреев не хотел. Он, давший когда-то себе клятву не быть бригадиром, не искал спасения в опасных лагерных должностях. Его путь иной - ни воровать, ни бить товарищей, ни доносить на них он не будет. Андреев терпеливо ждал.
Этим утром новый бригадир послал Андреева за аммонитом - желтым порошком, который взрывник рассыпал в бумажные пакеты. На большом аммонитном заводе, где шла перевалка и расфасовка взрывчатки, прибывшей с материка, работали женщины-заключенные - работа считалась легкой. На своих работниц аммонитный завод ставил свое клеймо - волосы их, будто после пергидроля, делались золотистыми.
Железная печурка в избушке взрывников топилась желтыми кусками аммонита.
Андреев показал записку смотрителя, расстегнул бушлат и размотал свой дырявый шарф.
- Портянки мне надо, ребята, - сказал он, - мешок.
- Да разве наши мешки, - начал молодой взрывник, но тот, что был постарше, толкнул товарища локтем, и тот замолчал.
- Дадим тебе мешок, - сказал взрывник постарше, вот.
Андреев снял шарф и отдал его взрывнику. Потом разорвал мешок на портянки и завернул в них ноги - по-крестьянски, ибо на свете существует три способа "увертки" портянок: по-крестьянски, по-армейски и по-городскому.
Андреев заматывал по-крестьянски, накидывая портянку на ступни сверху. Андреев с трудом втиснул ноги в бурки, встал и, взяв ящик с аммонитом, вышел. Ногам было жарко, горлу - холодно. Андреев знал, что и то, и другое - ненадолго. Он сдал аммонит смотрителю и вернулся к костру. Нужно было дождаться смотрителя.
Смотритель наконец подошел к костру.
- Покурим, - торопливо сказало несколько голосов.
- Кто-то покурит, а кто-то и нет, - и смотритель, завернув тяжелую полу полушубка, достал жестяную баночку с махоркой.
Только теперь Андреев развязал тряпочки, на которых держались бурки, и стащил бурки с ног.
- Хороши портяночки, - без зависти сказал кто-то, замотанный в тряпки, показывая на андреевские ноги, обвернутые кусками плотной блестящей мешковины.
Андреев устроился поудобней, двинул ногами и закричал. Вспыхнуло желтое пламя. Пропитанные аммонитом портянки горели ярко и медленно. Охваченные огнем брюки и телогрейка тлели. Соседи шарахнулись в стороны. Смотритель повалил Андреева навзничь и засыпал его снегом.
- Как же ты, гад!
- Посылай за лошадью. Да пиши карту о несчастном случае.
- Скоро обед, может, дождешься...
- Нет, не дождусь, - солгал Андреев и закрыл глаза.
В больнице ноги Андреева залили теплым раствором марганцовки и положили без повязки на койку. Одеяло было укреплено на каркасе - получилось нечто вроде палатки. Андреев был надолго обеспечен больницей.
К вечеру в палату вошел врач.
- Слышь, вы, господа каторжане, - сказал он, - война кончилась. Неделю назад кончилась. Второй курьер из управления пришел. А первого курьера, говорят, беглецы убили.
Но Андреев не слушал врача. У него поднималась температура.
1959
В бане
В тех недобрых шутках, которыми только лагерь умеет шутить, баню часто называют "произволом". "Фраера кричат: произвол! - начальник в баню гонит" - это обычная, традиционная, так сказать, ирония, идущая от блатных, чутко все замечающих. В этом шутливом замечании скрыта горькая правда.
Баня всегда отрицательное событие для заключенных, отягчающее их быт. Это наблюдение есть еще одно из свидетельств того смещения масштабов, которое представляется самым главным, самым основным качеством, которым лагерь наделяет человека, попавшего туда и отбывающего там срок наказания, "термин", как выражался Достоевский.
Казалось бы, как это может быть? Уклонение от бани - это постоянный предмет недоумения врачей и всех начальников, которые видят в этом банном абсентеизме род протеста, нарушения дисциплины, некоего вызова лагерному режиму. Но факт есть факт. И годами проведение бани - это событие в лагере. Мобилизуется, инструктируется конвой, все начальники лично принимают участие в уловлении уклоняющихся. О врачах и говорить нечего. Провести баню и дезинфицировать белье в дезкамере - это прямая служебная обязанность санитарной части. Вся низшая лагерная администрация из заключенных (старосты, нарядчики) также оставляют все дела и занимаются только баней. Наконец, производственное начальство тоже неизбежно вовлечено в этот великий вопрос. Целый ряд производственных мер применяется в дни бани (их три в месяц).
И в эти дни все на ногах с раннего утра до поздней ночи.
В чем же дело? Неужели человек, до какой бы степени нищеты он ни был доведен, откажется вымыться в бане, смыть с себя грязь и пот, которые покрыли его изъеденное кожными болезнями тело, и хоть на час ощутить себя чище?
Есть русская поговорка: "Счастливый, как из бани", и эта поговорка верна и точно отражает то физическое блаженство, которое ощущает человек с чистым, вымытым телом.
Неужели разум потерян у людей до такой степени, что они не понимают, не хотят понимать, что без вшей лучше, чем со вшами. А вшей много, и вывести их без дезкамеры почти нельзя, особенно в густо набитых бараках.
Конечно, вшивость - понятие, нуждающееся в уточнении. Какой-нибудь десяток вшей в белье за дело не считается. Вшивость тогда начинает беспокоить и товарищей и врачей, когда их можно смахивать с белья, когда шерстяной свитер ворочается сам по себе, сотрясаемый угнездившимися там вшами.
Так неужели человек - кто бы он ни был, не хочет избавиться от этой муки, которая мешает ему спать и борясь с которой он в кровь расчесывает свое грязное тело?
Нет, конечно. Но - первым "но" является то, что для бани выходных дней не устраивается. В баню водят или после работы, или до работы. А после многих часов работы на морозе (да и летом не легче), когда все помыслы и надежды сосредоточены на желании как-нибудь скорей добраться до нар, до пищи и заснуть - банная задержка почти невыносима. Баня всегда на значительном расстоянии от жилья. Это потому, что та же самая баня служит не только заключенным - вольнонаемные с поселка моются там же, и она обычно расположена не в лагере, а на поселке вольнонаемных.
Задержка в бане - это вовсе не какой-нибудь час, отводимый на мытье и дезинфекцию вещей. Народу моется много, партия за партией, и все опоздавшие (их везут в баню прямо с работы, не завозя в лагерь, ибо там они разбегутся и найдут какой-нибудь способ укрыться от бани) ждут на морозе очереди. В большие морозы начальство старается сократить пребывание арестантов на улице - их пускают в раздевалку, в которой места на 10-15 человек, и туда сгоняют сотню людей в верхней одежде. Раздевалка не отапливается или отапливается плохо. Все мешается вместе - голые и одетые в полушубки, все толчется, ругается, гудит. Пользуясь шумом и теснотой, и воры и не воры крадут вещи товарищей (пришли ведь другие, отдельно живущие бригады - найти краденое никогда нельзя). Сдать вещи никуда нельзя.
Вторым или, вернее - третьим "но" является то, что, пока бригада моется в бане, обслуга обязана - при контроле санитарной части - сделать уборку барака - подмести, вымыть, выбросить все лишнее. Эти выбрасывания лишнего производятся беспощадно. Но ведь каждая тряпка дорога в лагере, и немало энергии надо потратить, чтоб иметь запасные рукавицы, запасные портянки, не говоря уж о другом, менее портативном, о продуктах и говорить нечего. Все это исчезает бесследно и на законном основании, пока идет баня. С собой же на работу и потом в баню брать запасные вещи бесполезно - их быстро усмотрит зоркий и наметанный глаз блатарей. Любому вору хоть закурить да дадут за какие-либо рукавички или портянки.
Человеку свойственно быстро обрастать мелкими вещами, будь он нищий или какой-нибудь лауреат - все равно. При каждом переезде (вовсе не тюремного характера) у всякого обнаруживается столько мелких вещей, что диву даешься - откуда могло столько собраться. И вот эти вещи дарятся, продаются, выбрасываются, достигая с великим трудом того уровня в чемодане, который позволяет захлопнуть крышку. Обрастает так и арестант. Ведь он рабочий - ему надо иметь и иголку, и материал для заплат, и лишнюю старую миску, может быть. Все это выбрасывалось, и после каждой бани все вновь заводили "хозяйство", если не успевали заранее забить все это куда-нибудь глубоко в снег, чтобы вытащить через сутки.
Во времена Достоевского в бане давали одну шайку горячей воды (остальное покупалось фраерами). Норма эта сохранилась и по сей день. Деревянная шайка не очень горячей воды и жгучие, прилипающие к пальцам куски льда, наваленного в бочку, - неограниченно. Шайка одна, никакого второго ушата для того, чтобы развести воду, не дается. Стало быть, горячая вода остужается кусками льда, и это вся порция воды, которой должен вымыть арестант голову и тело. Летом вместо льда дается холодная вода, все-таки вода, а не лед.
Положим, арестант должен уметь вымыться любым количеством воды - от ложки до цистерны. Если воды - ложка, он промоет слипшиеся гнойные глаза и будет считать туалет законченным. Если цистерна - будет брызгать на соседей, менять воду каждую минуту и как-нибудь ухитрится употребить в положенное время свою порцию. На кружку, черпак или таз тоже существует свой расчет и негласная техническая инструкция.
Все это показывает остроумие в разрешении такого бытового вопроса, как банный. Но, конечно, не решает вопроса чистоты. Мечта о том, чтобы вымыться в бане, - неосуществимая мечта.
В самой бане, отличающейся все тем же гулом, дымом, криком и теснотой (кричат, как в бане, - это бытующее выражение), нет никакой лишней воды, да и покупать ее никто не может. Но там не хватает не только воды. Там не хватает тепла. Железные печи не всегда раскалены докрасна, и в бане (в огромном большинстве случаев) попросту холодно. Это ощущение усугубляется тысячей сквозняков из дверей, из щелей. Постройки положены, как и все деревянные строения, на мох, который быстро сохнет и крошится, открывая дырки наружу. Каждая баня - это риск простуды, и это все знают (в том числе, конечно, и врачи). После каждого банного дня увеличивается список освобожденных от работы по болезни, список действительных больных, и это всем врачам известно.
Запомним, что дрова для бани приносят накануне сами бригады на своих плечах, что опять-таки часа на два затягивает возвращение в барак и невольно настраивает против банных дней.
Но всего этого мало. Самым страшным является дезинфекционная камера, обязательная, по инструкции, при каждом мытье.
Нательное белье в лагере бывает "индивидуальное" и "общее". Это - казенные, официально принятые выражения наряду с такими словесными перлами, как "заклопленность", "завшивленность" и т. д. Белье "индивидуальное" - это белье поновей и получше, которое берегут для лагерной обслуги, десятников из заключенных и тому подобных привилегированых лиц. Белье не закреплено за кем-либо из этих арестантов особо, но оно стирается отдельно и более тщательно, чаще заменяется новым. Белье же "общее" есть общее белье. Его раздают тут же, в бане, после мытья, взамен грязного, собираемого и подсчитываемого, впрочем, отдельно и заранее. Ни о каких выборах по росту не может быть и речи. Чистое белье - чистая лотерея, и странно и до слез больно было мне видеть взрослых людей, плакавших от обиды при получении истлевшего чистого взамен крепкого грязного. Ничто не может человека заставить отойти от тех неприятностей, которые и составляют жизнь. Ни то ясное соображение, что ведь это всего на одну баню, что, в конце концов, пропала жизнь и что тут думать о паре нательного белья, что, наконец, крепкое белье он получил тоже случайно, а они спорят, плачут. Это, конечно, явление порядка тех же психических сдвигов в сторону от нормы, которые характерны почти для каждого поступка заключенного, та самая деменция, которую один врач-невропатолог называл универсальной болезнью.
Жизнь арестанта в своих душевных переживаниях сведена на такие позиции, что получение белья из темного окошечка, следующего в таинственную глубину банных помещений, - событие, стоящее нервов. Задолго до раздачи вымывшиеся толпой собираются к этому окошечку. Судят и рядят о том, какое белье выдавалось в прошлый раз, какое белье выдавали пять лет назад в Бамлаге, и как только открывается доска, закрывающая окошечко изнутри, - все бросаются к нему, толкая друг друга скользкими, грязными, вонючими телами.
Это белье не всегда выдают сухим. Слишком часто его выдают мокрым - не успевают просушить - дров не хватает. А надеть мокрое или сырое белье после бани вряд ли кому-либо приятно.
Проклятия сыплются на голову ко всему привыкших банщиков. Одевшие сырое белье начинают замерзать окончательно, но надо подождать дезинфекции носильного платья.
Страницы
предыдущая целиком следующая