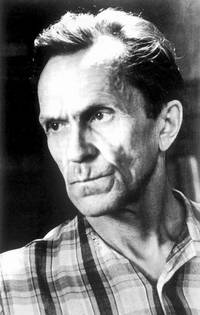- Не знаю.
- А формулу соды?
- Не знаю.
- Зачем же вы пришли на экзамен? Я ведь записываю вопросы и ответы в протокол.
Я молчал. Но Бойченко был немолод, он понимал кое-что. Недовольно он вгляделся в список моих предыдущих отметок: две пятерки. Он пожал плечами.
- Напишите знак кислорода.
Я написал букву "Н" большое.
- Что вы знаете о периодической системе элементов Менделеева?
Я рассказал. В рассказе моем было мало "химического" и много Менделеева. О Менделееве я кое-что знал. Как же - ведь он был отцом жены Блока!
- Идите, - сказал Бойченко.
Назавтра я узнал, что получил тройку по химии и зачислен, зачислен, зачислен на фельдшерские курсы при центральной больнице Управления северо-восточных лагерей НКВД.
Я ничего не делал два следующие дня: лежал на койке, дышал барачной вонью и смотрел в прокопченный потолок. Начинался очень важный, необычайно важный период моей жизни. Я ощущал это всем своим существом. Я вступал на дорогу, которая могла спасти меня. Нужно было готовиться не к смерти, а к жизни. И я не знал, что труднее.
Нам выдали бумагу - огромные листы, обгорелые с краев - след прошлогоднего пожара от взрыва, уничтожившего весь город Находку. Из этой бумаги мы сшили тетради. Нам выдали карандаши и перья.
Шестнадцать мужчин и восемь женщин! Женщины сидели в левой части класса, поближе к свету, мужчины - справа, где потемнее. Коридор в метр шириной разделял класс. У нас были новенькие узкие столы с нижней полочкой. Я и в средней школе учился на таких точно столах.
Позднее мне случилось попасть в рыбацкий поселок Олу - около Ольской эвенкской школы стояла парта, и я долго разглядывал загадочную конструкцию, пока наконец не сообразил, что это такое - парта Эрисмана.
Учебников у нас не было никаких, а из наглядных пособий - несколько плакатов по анатомии.
Научиться было геройством, а научить - подвигом.
Сначала о героях. Никто из нас - ни женщины, ни мужчины - не думал стать фельдшером для того, чтобы пожить в лагере без забот, поскорей превратиться в "лепилу".
Для некоторых - и меня в том числе - курсы были спасением жизни. И хотя мне было под сорок лет, я выкладывался полностью и занимался на пределе сил и физических, и душевных. Кроме того, я рассчитывал кое-кому помочь, а кое с кем свести счеты десятилетней давности. Я надеялся снова стать человеком.
Для других курсы давали профессию на всю жизнь, расширяли кругозор, имели немалое общеобразовательное значение, сулили твердое общественное положение в лагере.
За первым столом на первом месте от прохода сидел Мин Гарипович Шабаев - татарский писатель Мин Шабай, осужденный по статье "аса", жертва тридцать седьмого года.
Русским языком Шабаев владел хорошо, записывал лекции по-русски, хотя, как я выяснил через много лет, писал он прозу на татарском языке. В лагере многие скрывают свое прошлое. Это объяснимо и логично не только для бывших следователей и прокуроров. Писатель, как интеллигент, как человек умственного труда, "очкарик", в местах заключения всегда вызывает ненависть и у товарищей, и у начальства. Шабаев понял это давно, выдавая себя за торгового работника, и в разговоры о литературе не вмешивался - так было лучше всего, спокойней всего, по его мнению. Он всем улыбался и вечно что-то жевал. Одним из первых курсантов он начал приобретать отечный вид, опухать, - приисковые годы не прошли даром для Мина Гариповича. От курсов он был в полном восхищении.
- Понимаешь, мне сорок лет, и я впервые узнал, что печень-то у человека одна. Я думал - две, всего ведь по два.
Наличие у человека селезенки приводило Мина Гариповича в полный восторг.
После освобождения Мин Гарипович не стал работать фельдшером, а вернулся на милую его сердцу снабженческую работу. Стать агентом снабжения - перспектива еще более ослепляющая, чем медицинская карьера.
Рядом с Шабаевым сидел Бокис - огромных размеров латыш, будущий чемпион Колымы по пинг-понгу. В больнице он "приземлился" уже не один год, сначала как больной, потом как санитар из больных. Врачи обещали и устроили Бокису диплом. Уже с фельдшерским дипломом Бокис выехал в тайгу, увидел золотые прииски. Тайга была для него страшным призраком, но боялся он в ней не того, чего нужно бояться, - растления собственной души. Равнодушие - это еще не подлость.
Третьим сидел Бука - одноглазый солдат второй мировой войны, осужденный за мародерство. Прииск в три месяца выбросил Буку обратно - на больничную койку. Семилетнее образование Буки, покладистый характер, украинская хитреца - все это сложилось вместе, и Бука был принят на курсы. Одним глазом Бука увидел на прииске не меньше, чем многие видят двумя; самое главное увидел - что свою судьбу можно строить в стороне от пятьдесят восьмой статьи и множества ее разновидностей. На курсах не было человека скрытнее Буки.
Месяца через два Бука заменил черную повязку искусственным глазом. Только в больничном наборе не оказалось карих глаз, и пришлось взять голубой. Впечатление было сильное, но скоро все привыкли - раньше, чем сам Бука, к разноцветным Букиным глазам. Я пытался утешить Буку рассказом о глазах Александра Македонского, Бука вежливо меня выслушал, - глаза Александра Македонского были чем-то вроде "политики" - Бука промычал нечто неопределенное и отошел в сторону.
Четвертым в углу у стены сидел Лабутов, как и Бука - солдат мировой войны. Радист, человек бойкий, самолюбивый, он изготовил миниатюрный приемник, по которому слушал фашистское радио. Рассказал товарищу, был изобличен. Трибунал дал ему десять лет по "аса". Лабутов имел десятилетнее образование, любил вычерчивать всяческие схемы наподобие штабных карт огромного размера, со стрелками, знаками, с названием занятия, скажем, по анатомии - "Операция", "Сердце". Колымы он не знал. В тот весенний день, когда нас выгнали на работу, Лабутов вздумал выкупаться в ближайшей канаве, и мы с трудом удержали его. Фельдшер вышел из него хороший, особенно позднее, когда он постиг тайны физиотерапии, что для него как электрика и радиста было нетрудно, и укрепился на постоянную работу в кабинет электролечения.
Во втором ряду сидели Черников, Кац и Малинский. Черников был самодовольный, вечно улыбающийся мальчик - тоже фронтовик, осужденный по какой-то уголовной статье. Он и не нюхал Колымы, на курсы поступил из Маглага - из городского лагерного отделения. Грамотный достаточно, чтобы учиться, он справедливо полагал, что с курсов его не выгонят, если будут и нарушения, быстро сошелся с одной из курсанток.
Женька Кац, приятель Черникова, был бойкий "бытовичок", чрезвычайно дорожащий своими пышными кудрями. Как староста курсов - был незлобив и не имел никакого авторитета. Уже после окончания курсов, работая на амбулаторном приеме, услышав от врача, осматривающего больного: "Марганцу!" - Женька положил на рану не марлю, смоченную слабым раствором "калиум гипермарганикум", а засыпал рану темно-фиолетовыми кристалликами марганца. Больной, прекрасно знавший, как лечат ожоги, не отвел руки, не запротестовал, не моргнул глазом. Это был старый колымчанин. Небрежность Женьки Каца освободила его от работы чуть не на месяц. На Колыме удача бывает редко. Ее надо хватать крепко и держать, пока есть силы.
Малинский был моложе всех в классе. Ему было девятнадцать лет - призывник последнего года войны, воспитанный в военное время, с моралью нетвердой, Костя Малинский был осужден за мародерство. Случай привел его в больницу, где одним из врачей работал его дядя - московский терапевт. Дядя помог ему устроиться на курсы. Курсы Костю интересовали мало. Порочная его природа, а может быть, просто молодость постоянно толкала его на разные лагерные авантюры: получение масла по поддельному талону, продажа обуви, поездка в Магадан. У него вечно были объяснения по этой части (только ли по этой?) у уполномоченных. Кто-то ведь должен был быть осведомителем.
Курсы дали Косте профессию. Через несколько лет я встретился с ним в поселке Ола. Костя выдавал там себя за фельдшера, окончившего двухлетние курсы военного времени, и я невольно мог быть причиной разоблачения лжи.
В 1957 году я ехал с Костей в одном автобусе в Москве - велюровая шляпа, мягкое пальто.
- Что ты делаешь?
- По медицине, по медицине пошел, - кричал мне Костя на прощанье.
Остальные курсанты были люди из горных управлений, люди другой судьбы.
Орлов был "литерка", осужденный по литерной статье, то есть "тройками", или Особым совещанием.
Московский механик Орлов доплывал на приисках трижды. Как шлак, колымская машина выбросила его в местную больницу, и оттуда он попал на курсы. Ставкой была жизнь. Орлов ничего не знал, кроме занятий, как ни бесконечно трудно давалась ему медицина. Постепенно он втянулся в занятия, поверил в свое будущее.
Учитель средней школы, географ Суховенченко был старше Орлова - ему было за сорок лет. В заключении он был около восьми лет из десяти - оставалось уже немного. Притом Суховенченко был из тех, кто уцелел, укрепился - он уже имел спокойную работу и мог выжить. Он отбыл стаж доходяги и остался в живых. Он работал геологом, коллектором, помощником начальника партии. Но все это благо могло внезапно исчезнуть как дым - достаточно было сменить начальника - у Суховенченко ведь не было диплома. А память о приисковых годах была слишком свежа. Возможность получить путевку на курсы была. Курсы предполагались восьмимесячные - до окончания срока осталось бы совсем немного. Была бы приобретена хорошая лагерная профессия. Суховенченко бросил геологическую партию и получил фельдшерское образование. Но медика из него не вышло - то ли года были не те, то ли качества души иные. Окончив курсы, Суховенченко почувствовал, что не может лечить, не имеет силы воли для решения. Перед ним были живые люди, а не камни для коллекций. Поработав немного фельдшером, Суховенченко вернулся к профессии геолога. Стало быть, он был из тех, кого зря учили. Порядочность, доброта его были вне всякого сомнения. "Политики" он боялся как огня, но доносить не пошел бы.
У Силайкина не было семи классов, человек он был уже пожилой, учиться было очень трудно. Если Кундуш, Орлов, я с каждым днем чувствовали себя все увереннее, Силайкину было все труднее. Но он продолжал учиться, рассчитывая на свою память, память у него превосходная, на свое уменье ловчить и не только ловчить, но и понимать людей. По наблюдениям Силайкина, преступников вовсе нет, кроме блатарей. Все прочие заключенные вели себя на воле так, как все другие - столько же воровали у государства, столько же ошибались, столько же нарушали закон, как и те, кто не был осужден по статьям Уголовного кодекса и продолжал заниматься каждый своей работой. Тридцать седьмой год подчеркнул это с особой силой - уничтожив всякую правовую гарантию у русских людей. Тюрьму стало никак не обойти, никому не обойти.
Преступники на воле и в лагере только одни - блатари. Силайкин был умен, он был великий сердцеведец и, осужденный за мошенничество, был по-своему порядочным человеком. Есть порядочность от чувства, от сердца. И есть порядочность от ума. Не честных убеждений, а честных привычек не хватало Силайкину. Он был правдив, потому что понимал, что сейчас это выгодно. Он не сделал ни одного поступка против правил потому, что понимал, что этого делать нельзя. В людей он не верил и личную корысть считал главным двигателем общественного прогресса. Он был остроумен. На занятии по общей хирургии, когда опытнейший преподаватель Меерзон никак не мог втолковать курсантам "супинацию" и "пронацию", Силайкин встал, попросил слова и протянул руку с ладонью лодочкой вверх: "супу дай", и повернул ладонь: "пронесли мимо". Все - в том числе и Меерзон - запомнили, вероятно, на всю жизнь мрачную мнемонику Силайкина и оценили его колымское остроумие.
Выпускные экзамены Силайкин сдал вполне благополучно и работал фельдшером - на прииске. Работал, вероятно, хорошо, потому что был умен и "понимал жизнь". "Понимать жизнь" - это, по его мнению, было главным.
Столь же грамотным был его сосед по столу - Логвинов - Илюша Логвинов. Логвинов, осужденный за разбой, не будучи блатарем, все больше и больше попадал под влияние уголовного рецидива. Он видел ясно силу блатарей в лагере - силу и нравственную и материальную. Начальство заискивало перед блатарями, боялось блатарей. Блатарям в лагере был "родной дом". Они почти не работали, пользовались всяческими привилегиями, и хоть у них за спиной тайком составлялись этапные списки и время от времени приезжал "черный ворон" с конвоем и забирал особо разгулявшихся блатарей, но такова была жизнь - и на новом месте блатарям не было хуже. В штрафных зонах они были тоже хозяевами.
Логвинов, сам из трудовой семьи, совершивший преступление во время войны, видел, что его ждет одна дорога. Начальник лагеря, читавший дело Логвинова, уговорил его поступить на курсы. Экзамен был кое-как сдан, началась учеба страстная, безнадежная. Предметы медицины были слишком сложной материей для Илюши. Но он нашел в себе душевные силы не отступиться, окончил курсы и работал ряд лет старшим фельдшером большого терапевтического отделения. Он освободился, женился, завел семью. Курсы открыли ему дорогу в жизнь.
Шла вводная лекция по общей хирургии. Преподаватель перечислил имена людей, стоявших на вершинах мировой медицины.
- ...И в наше время один ученый сделал открытие - переворот в хирургии, в медицине вообще...
Мой сосед нагнулся вперед и выговорил:
- Флеминг.
- Кто это сказал? Встаньте!
- Я.
- Фамилия?
- Кундуш.
- Садитесь.
Я ощутил чувство резкой обиды. Я-то вовсе не знал, кто такой Флеминг. Я просидел в тюрьме и лагере почти десять лет, с тридцать седьмого года, без газет и без книг и ничего не знал, кроме того, что была и кончилась война, что есть какой-то пенициллин, что есть какой-то стрептоцид. Флеминг!
- Кто ты такой? - спросил я Кундуша впервые. Ведь мы вдвоем приехали из Западного управления по разверстке, обоих нас направил на курсы наш общий спаситель врач Андрей Максимович Пантюхов. Мы вместе голодали - он меньше, я - больше, но оба мы знали, что такое прииск. Друг о друге мы не знали ничего.
И Кундуш рассказал удивительную историю.
В 1941 году он был назначен начальником укрепленного района. Строители не спеша возводили доты и дзоты, пока июльским утром не рассеялся в бухте туман, и гарнизон увидел на рейде прямо перед собой немецкий линкор "Адмирал Шеер". Рейдер подошел поближе и в упор расстрелял все незаконченные укрепления, превратил все в пепел и груду камней. Кундуш получил десять лет. История была интересна и поучительна, в ней была только одна неясность - статья Кундуша: "аса". Такую статью не могли дать за оплошность, обнаруженную "Адмиралом Шеером". Когда мы сошлись побольше, я узнал, что Кундуш был осужден по пресловутому "делу НКВД" - одному из массовых открытых или закрытых процессов времени Лаврентия Берии: "ленинградское дело", "дело НКВД", Рыковский процесс, Бухаринский процесс, "кировское дело" - все это и были "этапы большого пути". Кундуш был горячим, порывистым человеком, не всегда умевшим сдержать вспыльчивость и в лагере. Был человеком безусловно порядочным, особенно после того, как воочию увидел "практику" мест заключения. Его собственная работа в недалеком прошлом - завотделом у Заковского в Ленинграде предстала перед ним в истинном, подлинном виде. Не потерявший интереса к книге, к знанию, к новости, умеющий ценить шутку, Кундуш был одним из самых привлекательных курсантов. Фельдшером он проработал несколько лет, но после освобождения перешел на работу снабженца, стал стивидором в Магаданском порту, пока не был реабилитирован и вернулся в Ленинград.
Любитель книг, особенно примечаний и комментариев, никогда не пропускающий напечатанного мелким шрифтом, Кундуш обладал широкими, но разбросанными знаниями, с удовольствием беседовал на всякие отвлеченные темы и по всем вопросам имел какой-то свой взгляд. Вся его натура протестовала против лагерного режима, против насилия. Личное свое мужество он доказал позднее, в смелой поездке на свидание к заключенной девушке-испанке, дочери кого-то из членов мадридского правительства.
Кундуш был рыхлого сложения. Все мы, конечно, ели кошек, собак, белок и ворон и, конечно, конскую падаль - если могли достать. Но став фельдшерами, мы этого не делали. Кундуш, работая в нервном отделении, сварил в стерилизаторе кошку и съел ее один. Скандал едва удалось потушить. С господином Голодом Кундуш встречался на прииске и хорошо запомнил его лицо.
Все ли рассказывал Кундуш о себе? Кто знает? Да и зачем это знать? "Не веришь - прими за сказку". В лагере не спрашивают ни о прошлом, ни о будущем.
Слева от меня сидел Баратели, грузин, осужденный за какое-то служебное преступление. Русским языком он владел плохо. На курсах он нашел земляка - преподавателя фармакологии, нашел поддержку и материальную, и моральную. Прийти поздно вечером в "кабинку" при больничном отделении, где сухо и тепло, как в летнем хвойном лесу, напиться чаю с сахаром или поесть не спеша перловой каши с крупными брызгами подсолнечного масла, чувствовать ноющую, расслабляющую радость всех оживающих мускулов - разве это не предел чудес для человека с прииска? А Баратели был на прииске.
Кундуш, я и Баратели сидели за четвертым столом. Третий стол был короче других - там был выступ печки-голландки, и сидели за этим столом двое - Сергеев и Петрашкевич. Сергеев был "бытовичок", бывший в заключении агентом снабжения - фельдшерская школа ему была не очень нужна. Занимался он небрежно. На первых практических занятиях по анатомии в морге - чего-чего, а трупов в распоряжении курсантов было сколько угодно, - Сергеев упал в обморок и был отчислен.
Петрашкевич не упал бы в обморок. Он был с прииска, да притом "литерник" по "каэровской" статье. Литер этот был нередкий в тридцать седьмом году: "осужден как член семьи", и больше ничего. Так получали "срока" дети, отцы, матери, сестры и прочие родственники осужденных. Дед Петрашкевича (не отец, а дед!) был видным украинским националистом. По этим соображениям в 1937 году был расстрелян отец Петрашкевича - украинский учитель. Сам Петрашкевич - школьник, шестнадцати лет, получил "десять рокив", "как член семьи".
Я неоднократно замечал, что заключение, особенно северное, как бы консервирует людей - их духовный рост, их способности замирают на уровне времени ареста. Этот анабиоз длится до освобождения. Человек, просидевший в тюрьме или лагере двадцать лет, не приобретает опыта обычной жизни - школьник остается школьником, мудрый - только мудрым, но не мудрейшим.
Петрашкевичу было двадцать четыре года. Он бегал по классу, кричал, привешивал за спину Шабаева или Силайкина какие-то бумажки, пускал голубей, смеялся. Отвечал преподавателям с полной школьной выкладкой. Но был он парень неплохой, фельдшером стал хорошим. "Политики" чурался как огня и боялся читать газеты.
Организм мальчика был недостаточно силен для Колымы. Петрашкевич умер от туберкулеза через несколько лет, не успев выбраться на Большую землю.
Женщин было восемь. Старостой была Муза Дмитриевна - в прошлом какой-то партийный или, скорее, профсоюзный работник - это занятие кладет неизгладимое клеймо на все повадки, манеры и интересы. Было ей лет сорок пять, и доверие начальства она старалась оправдать. Ходила она в какой-то бархатной кацавейке и хорошем шерстяном платье. Во время войны американских шерстяных вещей было пожертвовано огромное количество колымчанам. Конечно, в глубину тайги, до приисков, эти подарки не доходили, да и на побережье их постаралось расхватать местное начальство - выпрашивая или просто отбирая у заключенных эти свитеры и фуфайки. Но кое у кого из магаданских жителей остались эти "тряпки". И Муза их сохранила.
В курсовые дела она не мешалась, ограничивая свою власть лишь женской группой. Дружбу Муза водила с самой молоденькой курсанткой - Надей Егоровой, оберегая Надю от соблазнов лагерного мира. Надя этой опекой тяготилась не очень, и Муза не могла препятствовать бурному развитию романа Нади с лагерным поваром.
- Путь к сердцу женщины лежит через желудок. - Силайкин с удовольствием повторял эти слова. Перед Надей и ее соседкой Музой появлялись диетические блюда - всякие тефтели, ромштексы, блинчики. Порция была двойная и даже тройная. Штурм был недолгим, Надя сдалась. Благодарная Муза продолжала охранять Надю - уже не от повара, а от лагерного начальства.
Занималась Надя плохо. Зато она отводила душу в культбригаде. Культбригада, клуб, художественная самодеятельность - единственное место в лагере, где мужчинам и женщинам разрешено встречаться. И хотя недремлющее око лагерного надзора следит, чтоб отношения мужчин и женщин не перешагнули границу дозволенного - а по местному обычаю, доказать адюльтер надо столь же веско, как это делал полицейский комиссар в "Милом друге" Мопассана. Надзиратели наблюдают, ловят. Терпения не всегда хватает, ибо - по Стендалю - узник больше думает о своей решетке, чем тюремщик о своих ключах. Надзор ослабевает.
Если в культбригаде и нельзя рассчитывать на любовь в ее самом древнем и вечном варианте, то все равно: репетиции кажутся заключенному другим миром, более похожим на тот, в котором он жил когда-то. Это - немаловажное соображение, хотя лагерный цинизм и не позволяет признаться в таких чувствах. Вполне реальный выигрыш в мелких преимуществах, которые получает культработник, - внезапная выписка махорки, сахара. Разрешение не стричь волос - не последнее дело в лагере. Из-за стрижки волос возникали целые побоища, скандалы, в которых участвовали вовсе не актеры и не воры...
Пятидесятилетний Яков Заводник, бывший комиссар колчаковского фронта (однокашник Зеленского, расстрелянного по Рыковскому процессу секретаря МК), отбивался кочергой от лагерных парикмахеров и попал из-за волос на штрафной прииск. Что это такое? Разве Самсонова сила - не легенда? В чем причина сего аффекта? Ясно, что психика повреждена желанием утвердить себя хоть в малом, в ничтожном - еще одно свидетельство великого смещения масштабов.
Уродливость тюремной жизни - раздельная жизнь мужчин и женщин - в культбригаде как-то сглаживается. В конечном счете это - тоже обман, но все же он дороже "низких истин". Все, кто может пищать и петь, все, кто читал дома стихи и играл в домашних спектаклях, кто бренчал на мандолине и плясал чечетку, - все "имеют шанс" попасть в культбригаду.
Надя Егорова пела в хоре. Танцевать она не умела, двигалась по сцене неуклюже, но ходила на репетиции. Бурная личная жизнь отнимала у нее много времени.
Елена Сергеевна Мелодзе, грузинка, была тоже "членом семьи" своего расстрелянного мужа. Взволнованная до глубины души его арестом - Мелодзе наивно думала, что ее муж в чем-то виноват, - она успокоилась, когда попала в тюрьму сама. Все стало ясным, логичным, простым - таких, как она, оказались десятки тысяч.
Разница между подлецом и честным человеком заключается вот в чем: когда подлец попадает невинно в тюрьму - он считает, что только он не виноват, а все остальные - враги государства и народа, преступники и негодяи. Честный человек, попав в тюрьму, считает, что раз его могли невинно упечь за решетку, то и с его соседями по нарам могло случиться то же.
Здесь -
Гегель и книжная мудрость
И смысл философии всей -
событий 1937 года.
К Мелодзе вернулось душевное спокойствие, ровное, веселое настроение. На Эльгене, женской таежной "командировке", Мелодзе на тяжелые работы не попала. И вот она - на фельдшерских курсах. Медички из нее не вышло. После освобождения - срок ее наказания кончался в начале пятидесятых годов - ее "прикрепили", как и всех, кто освобождался тогда, на колымское местожительство пожизненно. Она вышла замуж.
Рядом с Мелодзе сидела жизнерадостная, смешливая Галочка Базарова, молодая девушка, осужденная за какие-то проступки во время войны. Галочка всегда смеялась, даже хохотала, что ей вовсе не шло - у нее были редкие огромные зубы. Но это ее не смущало. Курсы дали ей профессию операционной сестры - целый ряд лет после освобождения она проработала в Магаданской больнице, где на первые заработки надела на зубы коронки из нержавеющей стали и сразу похорошела.
За Базаровой сидела Айно - белозубая финка. Срок ее начался военной зимой 1939/40 года. Русскому языку она научилась в заключении, и, будучи девушкой работящей, по-фински аккуратной, она обратила на себя внимание кого-то из врачей и попала на курсы. Учиться ей было трудно, но она училась и выучилась на сестру... Жизнь на курсах ей нравилась.
Рядом с Айно сидела маленькая женщина. Ни фамилии, ни лица ее я вспомнить не могу. Или это была какая-нибудь разведчица, или действительно тень человека.
На следующей скамейке сидела Маруся Дмитриева, приятельница Черникова, со своей подругой Тамарой Никифоровой. Обе осуждены по бытовым статьям, обе не бывали в тайге, обе учились охотно.
Рядом с ними сидела черноглазая Валя Цуканова, кубанская казачка - больная из больницы. На первые занятия она ходила еще в больничном халате. Она бывала в тайге и училась весьма успешно. Следы голода и болезни не скоро сошли с ее лица, но когда сошли - оказалось, что Валя - красавица. Когда она окрепла, начала "крутить любовь", не дождавшись окончания курсов. Многие за ней ухаживали, но безуспешно. Сошлась она с кузнецом и на свидания бегала в кузню. После освобождения работала ряд лет фельдшером на отдельном участке.
Нам хотелось учиться, а нашим преподавателям хотелось учить. Они соскучились по живому слову, по передаче знаний, которая им была запрещена, передаче знаний, которая до ареста составляла смысл их жизни. Профессора и доценты, кандидаты медицинских наук, лекторы курсов усовершенствования врачей, они впервые за многие годы получили выход своей энергии. Преподаватели курсов были все, кроме одного, пятьдесят восьмой статьи.
Начальство внезапно сообразило, что познание тайн воротного кровообращения не обязательно связано с антисоветской пропагандой, и курсы были обеспечены высококвалифицированными преподавателями. Правда, слушателями должны были быть бытовики. Но где найти столько бытовиков с семилетним образованием? Бытовики и так отбывали срок на привилегированных должностях и не нуждались ни в каких курсах. О том, чтобы привлечь на курсы пятьдесят восьмую, высокое начальство и слышать не хотело. В конце концов был найден компромисс - "аса" и пункт десятый пятьдесят восьмой статьи - как нечто почти бытовое - были допущены к испытаниям.
Было составлено и вывешено на стене расписание. Расписание! Все как в настоящей жизни. Машина, похожая на тяжело груженный, кое-как собранный старенький таежный грузовик, неуверенно двинулась по ухабам и болотам Колымы.
Первой лекцией была анатомия. Читал сей предмет больничный патологоанатом Давид Уманский, семидесятилетний старик.
Эмигрант царского времени, Уманский получил диплом доктора медицины в Брюсселе. Жил и работал в Одессе, где врачебная практика была удачной - за несколько лет Уманский стал собственником многих домов. Революция показала, что дома - не самый надежный вид вклада. Уманский вернулся к врачебной деятельности. К половине тридцатых годов он, чувствуя тогдашние ветры, решил забраться подальше и нанялся на работу в Дальстрой. Это его не спасло. Он "прошел по разверсткам" Дальстроя, в 1938 году был арестован и осужден на 15 лет. С того времени он работал заведующим моргом больницы. Хорошо работать ему мешало презрение к людям, обида на свою жизнь. У него хватало ума не ссориться с лечащими врачами - на вскрытиях он мог бы доставить им много неприятностей, а может быть, это был не ум, а презрение, и он уступал в спорах на "секции" из простого чувства презрения.
Ум у доктора Уманского был ясный. Он был неплохим лингвистом - это было его хобби, любимое дело. Он знал много языков, изучил в лагере восточные и пытался вывести законы формирования языков, тратя на это все свободное время у себя в морге, где он жил вместе с ассистентом, фельдшером Дунаевым.
Попутно, легко и как бы шутя, прочел Уманский и курс латинского языка для будущих фельдшеров. Уж что это был за латинский язык, не знаю, но родительный падеж в рецептурных записях стал даваться мне легко.
Доктор Уманский был человеком живым, откликавшимся на любое политическое событие и имеющим свое продуманное мнение по любому вопросу международной или внутренней жизни. "Самое главное, дорогие друзья, - говорил он на своих приватных беседах, - выжить и пережить Сталина. Смерть Сталина - вот что принесет нам свободу". Увы, Уманский умер в Магадане в 1953 году, не дождавшись того, чего ждал столько лет.
Читал он неплохо, но как-то нехотя. Это был самый равнодушный из всех преподавателей. Время от времени устраивались опросы, повторения, анатомия общая сменялась анатомией частной. Лишь один раздел своей науки Уманский категорически отказался читать: анатомию половых органов. Ничто не могло его убедить, и курсанты закончили обучение, так и не получив знаний по этому разделу из-за чрезмерной стыдливости брюссельского профессора. Какие причины были у Уманского? Ему казалось, что и нравственный, и культурный, и образовательный уровень курсантов недостаточно высок, чтоб подобные темы не вызывали нездорового интереса. Этот нездоровый интерес вызывался и в гимназиях - анатомическим атласом, например, и Уманский это помнил. Он был не прав - провинциалы, например, конечно, отнеслись бы к вопросу со всей серьезностью.
Человеком он был порядочным и раньше многих преподавателей увидел в курсантах - людей. Доктор Уманский был убежденным вейсманистом. Рассказывая нам о делении хромосом, он вскользь сообщил, что сейчас, кажется, есть другая теория деления хромосом, но он просто эту новую теорию не знает и решается нам излагать только хорошо известное. Так мы и воспитались вейсманистами. Полное торжество вейсманистов при изобретении электронного микроскопа не застало доктора Уманского в живых. Это торжество доставило бы старому доктору радость.
Названия костей, названия мышц зубрили мы наизусть, разумеется, русское, а не латинское название. Мы зубрили вдохновенно, увлеченно. В зубрежке всегда есть какое-то демократическое начало - мы были все равны перед наукой - анатомией. Никто не старался ничего понять. Старались просто запомнить. Лучше всех шло дело у Базаровой и Петрашкевича - вчерашних школьников (если исключить время заключения, которое у Петрашкевича подходило к восьми годам).
Тщательно зубря урок, я вспомнил общежитие 1-го Московского университета в 1926 году - Черкаску, где ночью по темным коридорам ходили пьяные от занятий медики и зубрили, зубрили, заткнув уши пальцами. Общежитие грохотало, смеялось, жило. Жизнерадостные фоновцы, литературоведы, историки смеялись над бедными зубрилами от медицины. Мы презирали науку, где надо не понимать, а зубрить.
Через двадцать лет я зубрил анатомию. За эти двадцать лет я хорошо понял, что такое специальность, что такое точные науки, что такое медицина, что такое инженерное дело. И вот - привел бог случай заняться этим самому.
Мозг еще был способен и брать и отдавать знания.
Страницы
предыдущая целиком следующая