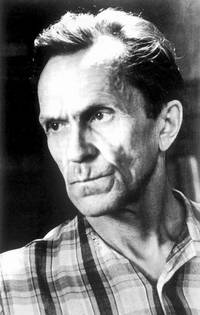Доктор Благоразумов читал "Основы санитарии и гигиены". Предмет был скучен, оживить лекции остротами Благоразумов не решался, а может быть, не умел по соображениям политического благоразумия - он помнил тридцать восьмой год, когда всех специалистов, всех врачей, инженеров, бухгалтеров заставляли работать с тачкой и кайлом, согласно "спецуказаниям", присланным из Москвы. Благоразумов два года возил тачку, трижды доходил от голода, холода, цинги и побоев. На третий год ему разрешили врачевать в качестве фельдшера на медпункте при враче-бытовике. Много врачей умерло в том году. Благоразумов остался живой и твердо запомнил: никаких бесед, ни с кем. Дружба только вокруг "выпить, закусить". В больнице его любили. Докторские запои скрывались фельдшерами, а когда скрыть было нельзя - Благоразумова тащили в карцер, в кондей. Он выходил из карцера и продолжал чтение лекций. Это никому не казалось странным.
Читал он старательно, заставляя записывать важное под диктовку, проверяя систематически записи и усвоение, - словом, Благоразумов был преподавателем добросовестным и благоразумным.
* * *
Фармакологию читал больничный фельдшер Гогоберидзе, бывший директор Закавказского фармакологического института. Русским языком он владел хорошо, и грузинского акцента в речи его было не больше, чем у Сталина. В прошлом Гогоберидзе был видным партийцем - его подпись есть на сапроновской "платформе 15". Время с 1928 года по 1937-й он провел в ссылке, а в 1937 году ему был объявлен новый приговор - пятнадцатилетний срок колымских лагерей. Гогоберидзе было под шестьдесят лет. Гипертония мучила его. Он знал, что скоро умрет, но не боялся смерти. Он ненавидел мерзавцев и, изобличив своего доктора по фамилии Кроль в отделении, где он работал, во взятках и поборах с заключенных, Гогоберидзе избил врача и заставил того отдать обратно чьи-то хромовые сапоги и "шкеры" в полоску. С Колымы Гогоберидзе не уехал. Он был освобожден с пожизненной ссылкой в Нарым, но испросил разрешения заменить Нарым на Колыму. Он жил в поселке Ягодный и там умер в начале пятидесятых годов.
Единственным бытовиком среди наших преподавателей был доктор Кроль - харьковский специалист по кожным и венерическим болезням. Все наши учителя пытались воспитать в нас нравственную порядочность и рисовали в лирических отступлениях от лекций идеал моральной чистоты, воспитать силу ответственности за великое дело помощи больному, да еще больному-заключенному, да еще заключенному на Колыме - повторяя, кто как сумел, то самое, что было внушено в их молодости институтами, факультетами медицины, врачебной присягой. Все, кроме Кроля. Кроль чертил нам другие перспективы, подходил к нашей будущей работе с другой, лучше ему известной, стороны. Он не уставал рисовать нам картины материального благоденствия фельдшеров. "Заработаете на масло", - хихикал Кроль и плотоядно улыбался. У Кроля были вечные темные дела с ворами - они приходили даже в перерыве между лекциями. Что-то он продавал, покупал, менял, мало стесняясь своих студентов. Лечение импотенции начальствующих лиц давало большой доход Кролю, охраняло его во время заключения. Кроль брался за какие-то таинственные знахарские операции в этом направлении - судить его было некому, связи у него были большие.
Две плюхи, которые он получил от фельдшера Гогоберидзе, не вывели Кроля из себя. "Погорячился, брат, погорячился", - говорил он позеленевшему от злобы Гогоберидзе.
Кроль пользовался общим презрением и товарищей-преподавателей, и курсантов. К тому же преподавал он путано, не обладая талантом учить. Кожные болезни - тот раздел, который после курсов пришлось мне перечесть внимательно с карандашом и бумагой.
Ольга Степановна Семеняк, бывший доцент кафедры диагностической терапии Харьковского медицинского института, не читала лекций на наших курсах. Но мы проходили у нее практику. Она научила меня выстукивать, выслушивать больного. К концу практики она подарила мне старенький стетоскоп - это одна из немногих моих колымских реликвий. Ольге Степановне было около пятидесяти лет, ее десятилетний срок еще не кончился. Осуждена она была за контрреволюционную агитацию. На Украине оставались ее муж и двое детей - все погибли во время войны. Война кончилась, кончался и срок заключения Ольги Степановны, но ей было некуда ехать. Она осталась в Магадане после освобождения.
На женском участке Эльген Ольга Степановна провела несколько лет. Она нашла в себе силы справиться со своим великим горем. Ольга Степановна была человеком наблюдательным и видела, что в лагере только одна группа людей сохраняет в себе человеческий образ - религиозники: церковники и сектанты. Личное несчастье заставило Семеняк сблизиться с сектантами. В своей "кабинке" она дважды в день молилась, читала Евангелие, старалась делать добрые дела. Добрые дела было делать ей нетрудно. Никто не может сделать больше добрых дел, чем лагерный врач, но мешал характер - упрямый, вспыльчивый, заносчивый. На совершенствование в этом направлении Семеняк не обращала внимания.
Заведующей она была строгой, педантичной и персонал держала в ежовых рукавицах. К больным была всегда внимательна.
После рабочего дня "студентов" кормили обедом в больничной раздатке. Семеняк обычно сидела тут же, пила чай.
- А что вы читаете?
- Ничего, кроме лекций.
- Вот прочтите, - она протянула мне маленькую книжку, похожую на молитвенник. Это был томик Блока, малой серии "Библиотека поэта".
Дня через три я вернул ей стихи.
- Понравились?
- Да. - Мне было совестно сказать, что я хорошо знаю, знал эти стихи.
- Прочтите мне "Девушка пела в церковном хоре".
Я прочел.
- Теперь - "О дальней Мэри, светлой Мэри"... Хорошо. Теперь вот это...
Я прочел "В голубой далекой спаленке".
- Вы понимаете, что мальчик-то умер...
- Да, конечно.
- Умер мальчик, - повторила Ольга Степановна сухими губами и свела в морщины свой белый крутой лоб. Она помолчала. - Дать вам что-нибудь еще?
- Да, пожалуйста.
Ольга Степановна открыла ящик письменного стола и вынула книжку, похожую на томик Блока. Это было Евангелие.
- Почитайте, почитайте. Особенно вот это - "К коринфянам" апостола Павла.
Через несколько дней я вернул ей книгу. Та безрелигиозность, в которой я прожил всю сознательную жизнь, не сделала меня христианином. Но более достойных людей, чем религиозники, в лагерях я не видел. Растление охватывало души всех, и только религиозники держались. Так было и пятнадцать, и пять лет назад.
В "кабинке" Семеняк познакомился я со строительным десятником из заключенных Васей Швецовым. Вася Швецов, красавец лет двадцати пяти, пользовался огромным успехом у всех лагерных дам. В отделении Семеняк он навещал раздатчицу Нину. Толковый, способный парень, он видел много ясно и ясно объяснял, но запомнился он мне по особому поводу. Я поругал Васю за Нину - она была беременна.
- Сама ведь лезет, - сказал Швецов. - Что тут придумаешь? Я в лагере вырос. С мальчиков в тюрьме. Сколько я их, этих баб, имел - веришь ли, и счесть нельзя. И знаешь что? Ведь ни с одной ни часу не спал я на кровати. А все как-то - то в сенях, то в сарае, чуть ли не на ходу. Веришь? - Так рассказывал Вася Швецов, первый больничный красавец.
Николай Сергеевич Минин, хирург-гинеколог, заведовал женским отделением. Лекций он у нас не читал, мы проходили практику, практику без всякой теории.
В большие бураны больничный поселок заносило снегом до крыш, и только по дыму труб можно было ориентироваться. У каждого отделения вырублены были ступеньки вниз - к входной двери. Мы вылезли из своего общежития наверх, побежали к женскому отделению и вошли в мининский кабинет в половине девятого, надели халаты и, приоткрыв дверь, скользнули в комнату. Шла обычная пятиминутка, сдача сестрой ночного дежурства. Минин, огромный седобородый старик, сидел за маленьким столом и морщился. Рапорт ночного дежурства кончился, и Минин махнул рукой. Все зашумели... Минин повернул голову направо. На небольшом стеклянном подносе старшая сестра принесла стаканчик голубоватой жидкости. Запах был знакомым. Минин взял стаканчик, выпил и разгладил седые усы.
- Ликер "Голубая ночь", - сказал он, подмигивая курсантам.
Я несколько раз был на его операциях. Оперировал он всегда "под мухой", но уверял, что руки дрожать не будут. Операционные сестры утверждали то же самое. Но после операции, когда он размывался, полоща руки в большом тазу, толстые мощные пальцы его дрожали мелкой дрожью, и он грустно разглядывал свои непослушные, трясущиеся руки.
- Отработался, Николай Сергеевич, отработался, - тихонько говорил он себе. Но продолжал оперировать еще несколько лет.
До Колымы он работал в Ленинграде. Арестован был в тридцать седьмом году, года два возил тачку на Колыме. Был он соавтором большого учебника по гинекологии. Фамилия второго автора была Серебряков. После ареста Минина учебник стал выходить с одной фамилией Серебрякова. На сутяжнические хлопоты после освобождения у Минина не хватило сил. Его освободили, как всех, без права выезда с Колымы. Он стал пить еще больше, а в 1952 году повесился в своей комнате в поселке Дебин.
Во время революции старый большевик Николай Сергеевич Минин вел переговоры с АРА от имени Советского правительства, встречался с Нансеном. Позднее читал лекции по радио по антирелигиозным вопросам.
Все его очень любили - как-то выходило так, что Минин всем хотел добра, хотя ничего никому не делал, ни хорошего, ни плохого.
Доктор Сергей Иванович Куликов читал "Туберкулез". В тридцатых годах усердно внушалось гражданам Большой земли, что климат Колымы и климат Дальнего Востока - одно и то же. Колымские горы якобы благоприятствуют лечению туберкулеза и стабилизируют состояние легочных больных, во всяком случае. Ревнители сего утверждения забывали, что Колымские сопки покрыты болотами, что реки золотых районов проложили себе путь в болотах, что лесотундра Колымы - самое вредное место для легочников. Забывали про почти поголовную заболеваемость туберкулезом у эвенков, якутов, юкагиров Колымы. В больницах для заключенных туберкулезные отделения не планировались. Но бацилла Коха - есть бацилла Коха, и туберкулезные отделения пришлось создавать весьма вместительные.
Сергей Иванович был по видимости сед и дряхл, заметно глуховат, но бодр душой и телом. Предмет свой он считал главнейшим, сердился, когда ему противоречили. Помалкивал, но, слыша важные газетные новости, усмехался и сверкал глазами.
Доктор Куликов отбыл десять лет по какому-то пункту пятьдесят восьмой статьи. Когда освободился, получил пожизненное прикрепление. На Колыму к нему приехала семья: старушка жена и дочь - тоже врач-туберкулезник.
Химик Бойченко вел лабораторную практику курсантов. Меня он запомнил хорошо и относился с полным презрением к человеку, не знающему химии.
Курс нервных болезней читала Анна Израилевна Понизовская. К этому времени она была на свободе и даже успела защитить кандидатскую диссертацию. Ряд лет в заключении довелось ей проработать с крупным невропатологом, профессором Скобло, который много и помог ей в оформлении темы, - так говорили в больнице. С профессором Скобло она встречалась уже после моего знакомства с ним - в 1939 году весной мы с ним вместе мыли полы на магаданской пересылке. Мир мал, Анна Израилевна была дамой чрезвычайно важной. Она любезно согласилась прочесть несколько лекций на курсах фельдшеров. Само чтение лекций обставлялось столь торжественно, что я из всех ее лекций запомнил только шелковое черное шуршащее платье Анны Израилевны и резкий запах ее духов - ни у одной нашей курсантки не было духов. Повар подарил, правда, Наде Егоровой крошечный флакончик дешевого одеколона "Сирень", но Надя так его осторожно и жадно нюхала во время занятий, что на два ряда назад не доносилось никакого запаха. А может быть, мешал вечный насморк мой, полученный на Колыме.
Помню, что приносили в класс какие-то плакаты - схемы условного рефлекса, должно быть, но был ли от этого толк - не знаю.
Психические заболевания решили нам вовсе не читать, сокращая и без того куцую программу. А преподаватели были - председатель приемной комиссии курсов, доктор Сидкин, был больничным психиатром.
Болезни уха, горла, носа читал нам доктор Задер, чистокровный венгр. Писаный красавец с бараньими глазами, доктор Задер знал по-русски очень плохо и передать что-либо курсантам почти не мог. Читать он вызвался для практики в русском языке. Занятия с ним были прямой потерей времени.
Мы донимали Меерзона, который к тому времени был назначен главным врачом больницы, - как же мы будем знать то, что читает Задер?
- Ну, если вы только этого не будете знать, то ничего, - отвечал в своей обычной манере Меерзон.
На Колыму Задер попал только что - сразу после войны. В 1956 году он был реабилитирован, но дело было в конце года, он решил не возвращаться в Венгрию, а, получив кучу денег при расчете с Дальстроем, поселился где-то на юге. С доктором Задером вскоре после того, как он принял зачеты от всех курсантов, случилась одна история.
Доктор Януш Задер, отоларинголог, был венгерским военнопленным, "салашистом", стало быть. "Термин" его был 15 лет. Он быстро выучился по-русски, он был медик, время, когда медиков держали на общих работах, прошло (и притом это указание касалось только литеры "Т" - то есть троцкистов), притом специальность его была самая дефицитная - ухо, горло и нос. Он оперировал и лечил удачно. Работал он в хирургическом отделении, как ординатор - это было нагрузкой к его основной специальности. На полостных операциях он ассистировал обычно заведующему хирургическим отделением, хирургу Меерзону. Словом, доктору Задеру везло, даже среди вольнонаемных он имел кое-какую клиентуру, он был одет в вольное, носил длинные волосы и был сыт, и мог бы быть и пьян, но спирта он не брал в рот ни капли. Известность его все росла и росла, пока не произошла одна история, которая лишила нашу больницу отоларинголога на долгое время.
Все дело в том, что эритроцит, то есть красный кровяной шарик, живет 21 день. Живая человеческая кровь находится в беспрерывном обновлении. Но кровь, выведенная из человеческого организма, не может жить долее 21 дня. При хирургическом отделении, как и положено, была своя станция переливания крови, куда сдавали кровь доноры - и вольнонаемные, и заключенные, - вольнонаемные получали 1 рубль за кубик, а заключенные в 10 раз меньше. Для какого-либо гипертоника это был основательный доход, брали по 300-400 граммов в месяц, - сдай, это тебе нужно для леченья, и, кроме того, ты получишь дополнительный паек и деньги. Из заключенных донорами были обслуга (санитары и т. п.), которая и держалась при больнице потому, что давала больным кровь. В переливании крови здесь нуждались больше, чем где-нибудь на земле, но, конечно, переливания крови назначались не по общим медицинским показаниям, в части истощения, например, а лишь в тех случаях, когда это нужно было вследствие или подготовки к операции, или уж особенно тяжелого состояния в терапевтических отделениях.
В станции переливания крови всегда был запас заранее взятой крови. И наличие этого запаса было гордостью нашей больницы. Во всех других больницах если и переливали кровь, то непосредственно от человека к человеку. Донор и реципиент лежали на соседних столах во время этой манипуляции.
Кровь, сроки хранения которой прошли, - выбрасывалась.
Недалеко от больницы был свиносовхоз, где время от времени при забоях свиней копили кровь и привозили ее в больницу. Здесь в кровь наливали раствор лимонно-кислого натрия для предупреждения свертываемости и давали больным пить эту жидкость, нечто вроде самодельного гематогена, очень питательную и любимую больными, питание которых состояло из всяких юшек и перловых каш. Выдачи гематогена для больных не были новостью. Случилось так, что заведующий хирургическим отделением, врач Меерзон, уехал в командировку, и заведование отделением перешло к доктору Задеру.
Во время обхода отделения он счел себя обязанным посетить и станцию переливания крови, где обнаружил, что у значительного запаса крови уже выходит срок хранения, и выслушал сообщение медсестры о ее намерении вылить эту кровь. Доктора Задера это удивило. "Разве эту кровь надо выбрасывать?" - спросил он. Сестра сказала, что так делается всегда.
- Перелейте эту кровь в чайники и выдайте ее тяжелым больным - "per os", - распорядился Задер. Сестра раздала кровь, и больные были этим очень довольны. - В будущем, - сказал венгр, - всю кровь, которая стареет, выдавайте таким же образом.
Так началась практика раздачи донорской крови в палатах. Когда заведующий отделением вернулся, он закатил скандал на высоких нотах: что фашист Задер поит больных человеческой кровью - ни больше, ни меньше. Больные узнали об этом в тот же день, ибо в больницах слухи распространяются еще быстрее, чем в тюрьмах, и тех, которые получали когда-то кровь, стало рвать. Задер был устранен от работы без всяких объяснений, и детальная докладная записка, уличающая Задера во всевозможных преступлениях, полетела в санитарное управление. Растерявшийся Задер пытался объяснить, что ведь никакой принципиальной разницы нет между переливанием в вену и приемом через рот, что эта кровь - хорошее дополнительное питание, но никто его не слушал. Волосы Задеру остригли, вольнонаемный пиджачок сняли и в арестантской робе его перевели в бригаду Лурье на лесозаготовку, и доктор Задер уже успел попасть на стахановскую доску лесного участка, когда явилась комиссия санитарного управления, обеспокоенная, впрочем, не самим фактом такого переливания крови, но тем обстоятельством, что ушная и горловая клиентура осталась без врача. По счастливой случайности комиссию эту возглавил майор медицинской службы, только что демобилизованный из армии и всю войну проработавший в хирургических отделениях медсанбата. Ознакомившись с материалами "обвинения", он никак не мог понять - в чем дело? За что преследуется Задер? И когда было выяснено, что Задер раздавал больным человеческую кровь, "давал пить кровь", майор сказал, пожимая плечами: - На фронте я это делал четыре года. А что, здесь нельзя это делать? Я ведь не знаю, я здесь недавно.
Задер был возвращен в хирургическое отделение из леса, несмотря на письменный протест бригадира лесозаготовок, который считал, что у него по чьему-то капризу берут лучшего лесоруба.
Но интерес к работе Задер потерял и никаких рационализаторских предложений больше не вносил.
Доктор Доктор был подлец законченный. Говорили, что он взяточник и самоснабженец - но разве на Колыме были начальники иных привычек? Мстительный и склочный - и это простительно.
Доктор Доктор ненавидел заключенных. Не то что плохо или недоверчиво к ним относился. Нет, он их тиранил, унижал повседневно и повсечасно, придирался, оскорблял и широко использовал свою безграничную власть (в пределах больницы) для наполнения карцеров, штрафных участков. Бывших заключенных он не считал за людей и неоднократно грозил - хирургу Трауту, например, что дать новый срок Трауту доктор Доктор не задумается. Каждый день свозили ему в квартиру то свежую рыбу - бригада "больных" ловила на море сетями, - то парниковые овощи, то мясо со свиносовхоза - и все это в количествах, достаточных для прокормления Гулливера. Доктор Доктор имел прислугу - дневального из заключенных, и тот помогал ему в реализации всех приношений. С "материка" в адрес доктора Доктора шли посылки с махоркой - валютой Колымы. Начальником больницы он был целый ряд лет, пока наконец другой гангстер не свалил доктора Доктора. Начальнику Доктора показалось, что "отчисления" маловаты...
Но все это было после, а во времена курсов доктор Доктор был царь и бог. Ежедневно устраивались собрания, и Доктор выступал там с речами, сильно забирая в сторону культа личности.
По части всяких клеветнических "меморандумов" Доктор тоже был большой мастер и мог "оформить" кого угодно.
Был он начальником мстительным, мелко мстительным.
- Вот ты мне не поклонился при встрече, а я на тебя напишу донос, да не просто донос, а официальный меморандум. Напишу "кадровый троцкист и враг народа" - и уж будь покоен - штрафной прииск тебе обеспечен.
Собственное детище - курсы огорчали доктора Доктора. Слишком много там оказалось курсантов пятьдесят восьмой статьи - доктор Доктор побаивался за свою карьеру. Типичный администратор тридцать седьмого года, доктор Доктор уволился было из Дальстроя к концу сороковых годов, но, увидя, что все остается по-прежнему и что на "материке" надо работать, вернулся на колымскую службу. Хотя процентные надбавки надо было выслуживать заново, Доктор очутился в привычной обстановке.
Посетив курсы перед выпускными экзаменами, доктор Доктор благожелательно выслушал доклад об успехах учащихся, обвел всех курсантов своими светло-голубыми стеклянными глазами и спросил:
- А банки-то все могут ставить?
Почтительный хохот преподавателей и "студентов" был ему ответом. Увы, именно банок-то мы и не научились ставить - никто из нас не думал, что эта нехитрая процедура имеет свои секреты.
Глазные болезни преподавал доктор Лоскутов. Мне выпало счастье знать и ряд лет работать вместе с Федором Ефимовичем Лоскутовым - одной из самых примечательных фигур Колымы. Батальонный комиссар времен гражданской войны - колчаковская пуля навеки засела в левом легком - Лоскутов получил медицинское образование в начале двадцатых годов и работал как военный врач, в армии. Случайная шуточка по адресу Сталина привела его в военный трибунал. Со сроком в три года он приехал на Колыму и первый год работал слесарем на прииске "Партизан". Потом был допущен к врачебной работе. Трехлетний срок подходил к концу. Это было время, известное по Колыме и по всей России под названием "гаранинщины", хотя правильней было бы назвать это время "павловщиной" по имени тогдашнего начальника Дальстроя. Полковник Гаранин был только заместителем Павлова, начальником лагерей, но именно он был председателем расстрельной тройки и подписывал весь 1938 год бесконечные списки расстрелянных. В 1938 году было страшно освобождаться по пятьдесят восьмой статье. Всем, кто кончал срок, грозило новое "дело", созданное, навязанное, организованное. Спокойней было иметь в приговоре лет десять, пятнадцать, чем три, пять. Легче было дышать.
Лоскутов был осужден снова - "колымской тройкой" во главе с Гараниным - на десять лет. Способный врач, он специализировался на глазных болезнях, оперировал, был ценнейшим специалистом. Санитарное управление держало его близ Магадана, на двадцать третьем километре - в нужных случаях его отвозили с конвоем в город Магадан для консультаций, операций. Один из последних земских врачей, Лоскутов был универсалом: он мог делать несложные полостные операции, знал гинекологию и был специалистом по болезням глаз.
В 1947 году, когда новый срок его подходил к концу, было снова сфабриковано дело уполномоченным Симоновским. В больнице арестовали нескольких фельдшеров и сестер и осудили их на разные сроки. Сам Лоскутов вновь получил десять лет. На этот раз настаивали, чтобы его удалили из Магадана и передали в "Берлаг" - новый, внутренний лагерь на Колыме для политических рецидивистов со строгим режимом. Несколько лет больничному начальству удавалось отстоять Лоскутова от "Берлага", но в конце концов он туда попал и по третьему сроку! С применением зачетов освободился в 1954 году. В 1955 году был полностью реабилитирован по всем трем срокам.
Когда он освободился, у него была одна смена белья, гимнастерка и штаны.
Человек высоких нравственных качеств, доктор Лоскутов всю свою врачебную деятельность, всю свою жизнь лагерного врача подчинил одной задаче: активной постоянной помощи людям, арестантам по преимуществу. Эта помощь была отнюдь не только медицинской. Он всегда кого-то устраивал, кого-то рекомендовал на работу после выписки из больницы. Всегда кого-то кормил, кому-то носил передачи - тому щепотку махорки, тому кусок хлеба.
Попасть к нему в отделение (он работал как терапевт) считали больные за счастье.
Он беспрерывно хлопотал, ходил, писал.
И так не месяц, не год, а целых двадцать лет изо дня в день, получая от начальства только дополнительные сроки наказания.
В истории мы знаем такую фигуру. Это - тюремный врач Федор Петрович Гааз[1], о котором написал книжку А. Ф. Кони. Но время Гааза было другим временем. Это были шестидесятые годы прошлого столетия - время нравственного подъема русского общества. Тридцатые годы двадцатого столетия таким подъемом не отличались. В атмосфере доносов, клеветы, наказаний, бесправия, получая один за другим тюремные приговоры по провокационно созданным делам, - творить добрые дела было гораздо труднее, чем во времена Гааза.
Одному Лоскутов устраивал выезд на "материк", как инвалиду, другому подыскивал легкую работу - не спрашивая у больного ничего, распоряжался его судьбой умно и полезно.
У Федора Ефимовича Лоскутова было маловато грамотности - в школьном смысле этого слова, - он пришел в медицинский институт с низким образованием. Но он много читал, хорошо наблюдал жизнь, много думал, свободно судил о самых различных предметах - он был широко образованным человеком.
В высшей степени скромный человек, неторопливый в рассуждениях - он был фигурой примечательной. Был у него недостаток - его помощь была, на мой взгляд, чересчур неразборчива, и потому его пробовали "оседлать" блатари, чувствуя пресловутую слабину. Но впоследствии он хорошо разобрался и в этом.
Три лагерных приговора, тревожная колымская жизнь с угрозами начальства, с унижениями, с неуверенностью в завтрашнем дне - не сделали из Лоскутова ни скептика, ни циника.
И выйдя на настоящую волю, получив реабилитацию и кучу денег вместе, он так же раздавал их, кому надо, так же помогал и не имел лишней пары белья, получая несколько тысяч рублей в месяц.
Таков был преподаватель глазных болезней. После окончания курсов мне пришлось проработать несколько недель - первых моих фельдшерских недель - именно у Лоскутова. Первый вечер закончился в процедурной. Привели больного с загортанным абсцессом.
- Что это такое? - спросил меня Лоскутов.
- Загортанный абсцесс.
- А лечение?
- Выпустить гной, следя, чтобы больной не захлебнулся жидкостью.
- Положите инструменты кипятить.
Я положил в стерилизатор инструменты, вскипятил, вызвал Лоскутова:
- Готово.
- Ведите больного.
Больной сел на табуретку, с открытым ртом. Лампочка освещала ему гортань.
- Мойте руки, Федор Ефимович.
- Нет, это вы мойте, - сказал Лоскутов. - Вы и будете делать эту операцию.
Холодный пот пробежал у меня по спине. Но я знал, хорошо знал, что, пока своими руками не сделаешь чего-либо, ты не можешь сказать, что умеешь это делать. Нетрудное вдруг оказывается непосильным, сложное - невероятно простым.
Я вымыл руки и решительно подошел к больному. Широко раскрытые глаза больного укоризненно и испуганно глядели на меня.
Я примерился, проткнул созревший абсцесс тупым концом ножа.
- Голову! Голову! - закричал Федор Ефимович.
Я успел нагнуть голову больного вперед, и он выхаркнул гной прямо на полы моего халата.
Страницы
предыдущая целиком следующая