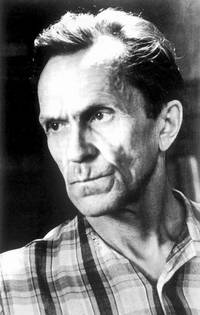Вдруг я увидел, что отвечать осталось только одному человеку. И этим человеком был Володя Добровольцев. Он поднял голову, не дожидаясь вопроса. В глаза ему падал свет рдеющих углей из открытой дверцы печки - глаза были живыми, глубокими.
- А я, - и голос его был покоен и нетороплив, - хотел бы быть обрубком. Человеческим обрубком, понимаете, без рук, без ног. Тогда я бы нашел в себе силу плюнуть им в рожу за все, что они делают с нами.
(1960)
Как это началось
Как это началось? В какой из зимних дней изменился ветер и все стало слишком страшным? Осенью мы еще рабо...
Как это началось? Бригаду Клюева задержали на работе. Неслыханный случай. Забой был оцеплен конвоем. Забой - это разрез, яма огромная, по краю которой и встал конвой. A внутри копошились люди, торопясь, подгоняя друг друга. Одни - с затаенной тревогой, другие - с твердой верой, что этот день случайность, этот вечер случайность. Придет рассвет, утро и все развеется, все выяснится, и жизнь пойдет хотя и по-лагерному, но по-прежнему. Задержка на работе. Зачем? Пока не выполнят дневного задания. Тонко визжала метель, мелкий сухой снег бил по щекам, как песок. В треугольных лучах "юпитеров", подсвечивающих ночные забои, снег крутился, как пылинки в солнечном луче, был похож на пылинки в солнечном луче у дверей отцовского сарая. Только в детстве все было маленькое, теплое, живое. Здесь все было огромное, холодное и злобное. Скрипели деревянные короба, в которых вывозили грунт к отвалам. Четыре человека хватали короб, толкали, тащили, катили, пихали, волокли короб к краю отвала, разворачивали и опрокидывали, высыпая мерзлый камень на обрыв. Камни негромко катились вниз. Вон - Крупянский, вон - Нейман, вон сам бригадир Клюев. Все спешат, но нет конца работе. Уже было около одиннадцати часов вечера - а гудок был в пять, приисковая сирена прогудела в пять, провизжала в пять, - когда бригаду отпустили "домой". "Домой" в барак. А завтра в пять утра - подъем и новый рабочий день, и новый дневной план. Наша бригада сменяла клюевскую в этом забое. Сегодня нас поставили на работу в соседний забой, и только в двенадцать ночи мы сменили бригаду Клюева.
Как это началось? На прииск вдруг приехало много, очень много "бойцов". Два новых барака, рубленых барака, которые строили заключенные для себя, - были отданы охране. Мы остались зимовать в палатках - рваных брезентовых палатках, пробитых камнями от взрывов в забое. Палатки были утеплены: в землю были врыты столбы, и на рейки натянут толь. Между палаткой и толем - слой воздуха. Зимой, говорят, снегом забьете. Но все это было после. Наши бараки были отданы охране - вот суть события. Охране бараки не понравились, ведь это были бараки из сырого леса - лиственница дерево коварное, людей не любит, стены, полы и потолки за целую зиму не высохнут. Это все понимали заранее и те, чьими боками предполагалось сушить бараки, и те, кому бараки достались случайно. Охрана приняла свое бедствие как должную северную трудность.
Зачем на прииске "Партизан" охрана? Прииск небольшой всего две-три тысячи заключенных в 1937 году. Соседи "Партизана" - прииск "Штурмовой" и Берзино (будущий Верхний Ат-Урях) были городами с населением двенадцать - четырнадцать тысяч человек заключенных. Разумеется, смертные вихри 1938 года существенно эти цифры изменили. Но все это было после. А сейчас зачем "Партизану" охрана? В 1937 году на прииске "Партизан" был единственный бессменный дежурный боец, вооруженный наганом, легко наводивший порядок в смиренном царстве "троцкистов". Блатари? Дежурный смотрел сквозь пальцы на милые проделки блатaрей, на их грабительские экспедиции и гастроли - и дипломатически отсутствовал в особенно острых случаях. Все было "тихо". А теперь вдруг видимо-невидимо конвоиров. Зачем?
Вдруг увезли куда-то целую бригаду отказчиков от работы "троцкистов", которые по тем временам, впрочем, не назывались отказчиками, а гораздо мягче "неработающими". Они жили в отдельном бараке посреди поселка, неогороженного поселка заключенных, который тогда и не назывался так страшно, как в будущем, в очень скором будущем "зоной". "Троцкисты" на законном основании получали шестьсот граммов хлеба в день и приварок, какой положено, и не работали вполне официально. Любой арестант мог присоединиться к ним, перейти в неработающий барак. Осенью тридцать седьмого года в этом бараке жило семьдесят пять человек. Все они внезапно исчезли, ветер ворочал незакрытой дверью, а внутри была нежилая черная пустота.
Вдруг оказалось, что казенного пайка, пайки - не хватает, что очень хочется есть, а купить ничего нельзя, а попросить у товарища - нельзя. Селедку, кусок селедки еще можно попросить у товарища, но хлеб? Внезапно стало так, что никто никого не угощал ничем, все стали есть, что-то жевать украдкой, наскоро, в темноте, нащупывая в собственном кармане хлебные крошки. Поиски этих крошек стали почти автоматическим занятием человека в любую свободную его минуту. Но свободных минут становилось все меньше и меньше. В сапожной мастерской вечно стояла огромная бочка с рыбьим жиром. Бочка была ростом с полчеловека, и все желающие совали в эту бочку грязные тряпки и мазали свои ботинки. Не сразу я догадался, что рыбий жир - это жир, масло, питание, что эту сапожную смазку можно есть, - озарение было подобно архимедовой эврике. Я бросился, то есть поплелся в мастерскую. Увы бочки в мастерской давно уже не было, другие люди уже шли той же дорогой, на которую я только-только вступал.
На прииск были привезены собаки, немецкие овчарки. Собаки?
Как это началось? За ноябрь забойщикам не заплатили денег. Я помню, как в первые дни работы на прииске, в августе и сентябре, около нас, работяг, останавливался горный смотритель - название это уцелело, должно быть, с некрасовских времен и говорил: "Плохо, ребята, плохо. Так будете работать и домой посылать будет нечего". Прошел месяц, и выяснилось, что у каждого был какой-то заработок. Одни послали деньги домой почтовым переводом, успокаивая свои семьи. Другие покупали на эти деньги в лагерном магазине, в ларьке, папиросы, молочные консервы, белый хлеб... Все это внезапно, вдруг кончилось. Порывом ветра пронесся слух, "параша", что больше денег платить не будут. Эта "параша", как и все лагерные "параши", полностью подтвердилась. Расчет будет только питанием. Наблюдать за выполнением плана, кроме лагерных работников, им же имя легион, и кроме производственного начальства, умноженного в достаточное количество раз, - будет вооруженная лагерная охрана, бойцы.
Как это началось? Несколько дней дула пурга, автомобильные дороги были забиты снегом, горный перевал был закрыт. В первый же день, как прекратился снегопад - во время метели мы сидели дома, - после работы нас повели не "домой". Окруженные конвоем, мы шли не спеша нестройным арестантским шагом, шли не один час, по каким-то неведомым тропам двигаясь к перевалу, все вверх, вверх - усталость, крутизна подъема, разреженность воздуха, голод, злоба - все останавливало нас. Крики конвоиров подбодряли нас как плети. Уже наступила полная темнота, беззвездная ночь, когда мы увидели огни многочисленных костров на дорогах близ перевала. Чем глубже становилась ночь, тем ярче горели костры, горели пламенем надежды, надежды на отдых и еду. Нет, эти костры были зажжены не для нас. Это были костры конвоиров. Множество костров в сорокаградусном, пятидесятиградусном морозе. На три десятка верст змеились костры. И где-то внизу в снеговых ямах стояли люди с лопатами и расчищали дорогу. Снеговые борта узкой траншеи поднимались на пять метров. Снег кидали снизу вверх по террасам, перекидывая дважды, трижды. Когда все люди были расставлены и оцеплены конвоем - змейкой костровых огней, - рабочие были предоставлены сами себе. Две тысячи людей могли не работать, могли работать плохо или работать отчаянно - никому до этого не было дела. Перевал должен быть очищен, и пока он не будет очищен - никто не тронется с места. Мы стояли в этой снеговой яме много часов, махая лопатами, чтобы не замерзнуть. В эту ночь я понял одну странную вещь, сделал наблюдение, много раз потом подтвержденное. Труден, мучительно труден и тяжел десятый, одиннадцатый час такой добавочной работы, а после перестаешь замечать время - и Великое Безразличие овладевает тобой - часы идут, как минуты, еще скорее минут. Мы вернулись "домой" после двадцати трех часов работы - есть вовсе не хотелось, и соединенный суточный приварок все ели необычно лениво. С трудом удалось заснуть.
Три смертных вихря скрестились и клокотали в снежных забоях золотых приисков Колымы в зиму тридцать седьмого - тридцать восьмого года. Первым вихрем было "берзинское дело". Директор Дальстроя, открыватель лагерной Колымы Эдуард Берзин[Э. Берзин расстрелян в августе 1938 г.], был расстрелян как японский шпион в конце тридцать седьмого года. Вызван в Москву и расстрелян. С ним вместе погибли его ближайшие помощники - Филиппов, Майсурадзе, Егоров, Васьков, Цвирко - вся гвардия "вишерцев", приехавшая вместе с Берзиным для колонизации Колымского края в 1932 году. Иван Гаврилович Филиппов был начальником УСВИТЛ[Управление северо-восточных исправительно?трудовых лагерей.], заместителем Берзина по лагерю. Старый чекист, член коллегии ОГПУ, Филиппов был когда-то председателем "разгрузочной тройки" на Соловецких островах. Есть документальный кинофильм двадцатых годов "Соловки". Вот в этой картине и снят Иван Гаврилович в своей тогдашней главной роли. Филиппов умер в Магаданской тюрьме - сердце не выдержало.
"Дом Васькова" - так называлась и называется по сей день Магаданская тюрьма, которую строили в начале тридцатых годов, - потом из деревянной тюрьма превратилась в каменную, сохранив свое выразительное название, - начальник был по фамилии Васьков. На Вишере Васьков - человек одинокий - проводил выходные дни всегда одинаково: садился на скамейку в саду или в лесочке, заменявшем сад, и стрелял целый день по листьям из мелкокалиберной винтовки. Алексей Егоров - "рыжий Лешка", как его звали на Вишере, был на Колыме начальником производственного управления, объединяющего несколько золотых приисков, кажется, Южного управления. Цвирко был начальником Северного управления, куда входил и прииск "Партизан". В 1929 году Цвирко был начальником погранзаставы и приехал в отпуск в Москву. Здесь после ресторанного кутежа Цвирко открыл стрельбу по колеснице Аполлона над входом в Большой театр - и очнулся в тюремной камере. С его одежды были спороты петлицы, пуговицы. Среди арестантского этапа Цвирко весной 1929 года прибыл на Вишеру и отбывал там положенный трехлетний срок. С приездом на Вишеру Берзина в конце 1929 года карьера Цвирко быстро пошла вверх. Цвирко, еще заключенным, стал начальником командировки "Парма". Берзин не чаял в нем души и взял его с собой на Колыму. Расстрелян Цвирко, говорят, в Магадане. Майсурадзе - начальник УРО, отбывший когда-то срок "за разжигание национальной розни", освободившийся еще на Вишере, тоже был одним из любимцев Берзина. Арестован он был в Москве, во время отпуска, и тогда же расстрелян.
Все эти мертвые - люди из ближайшего берзинского окружения. По "берзинскому делу" арестованы и расстреляны или награждены "сроками" многие тысячи людей, вольнонаемных и заключенных - начальники приисков и лагерных отделений, лагпунктов, воспитатели и секретари парткомов, десятники и прорабы, старосты и бригадиры... Сколько тысячелетий выдано "срока" лагерного и тюремного? Кто знает...
В удушливом дыму провокаций колымское издание сенсационных московских процессов, "берзинское дело", выглядело вполне респектабельно.
Вторым вихрем, потрясшим колымскую землю, были нескончаемые лагерные расстрелы, так называемая "гаранинщина". Расправа с "врагами народа", расправа с "троцкистами".
Много месяцев день и ночь на утренних и вечерних поверках читались бесчисленные расстрельные приказы. В пятидесятиградусный мороз заключенные-музыканты из "бытовиков" играли туш перед чтением и после чтения каждого приказа. Дымные бензинные факелы не разрывали тьму, привлекая сотни глаз к заиндевелым листочкам тонкой бумаги, на которых были отпечатаны такие страшные слова. И в то же время будто и не о нас шла речь. Все было как бы чужое, слишком страшное, чтобы быть реальностью. Но туш существовал, гремел. Музыканты обмораживали губы, прижатые к горловинам флейт, серебряных геликонов, корнет-а-пистонов. Папиросная бумага покрывалась инеем, и какой-нибудь начальник, читающий приказ, стряхивал снежинки с листа рукавицей, чтобы разобрать и выкрикнуть очередную фамилию расстрелянного. Каждый список кончался одинаково: "Приговор приведен в исполнение. Начальник УСВИТЛ полковник Гаранин".
Я видел Гаранина раз пятьдесят. Лет сорока пяти, широкоплечий, брюхатый, лысоватый, с темными бойкими глазами, он носился по северным приискам день и ночь на своей черной машине ЗИС-110. После говорили, что он лично расстреливал людей. Никого он не расстреливал лично - а только подписывал приказы. Гаранин был председателем расстрельной тройки. Приказы читались день и ночь: "Приговор приведен в исполнение. Начальник УСВИТЛ полковник Гаранин". По сталинской традиции тех лет, Гаранин должен был скоро умереть. Действительно, он был схвачен, арестован, осужден как японский шпион и расстрелян в Магадане.
Ни один из многочисленных приговоров гаранинских времен не был никогда и никем отменен. Гаранин один из многочисленных сталинских палачей, убитый другим палачом в нужное время.
"Прикрывающая" легенда была выпущена в свет, чтобы объяснить его арест и смерть. Настоящий Гаранин якобы был убит японским шпионом на пути к месту службы, а разоблачила его сестра Гаранина, приехавшая к брату в гости.
Легенда - одна из сотен тысяч сказок, которыми сталинское время забивало уши и мозг обывателей.
За что же расстреливал полковник Гаранин? За что убивал? "За контрреволюционную агитацию" - так назывался один из разделов гаранинских приказов. Что такое "контрреволюционная агитация" на воле в 1937 году - рассказывать никому не надо. Похвалил русский заграничный роман - десять лет "аса"[Антисоветская агитация.]. Сказал, что очереди за жидким мылом чересчур велики, - пять лет "аса". И по русскому обычаю, по свойству русского характера, каждый, получивший пять лет, - радуется, что не десять. Десять получит - радуется, что не двадцать пять, а двадцать пять получит - пляшет от радости, что не расстреляли.
В лагере этой лестницы - пять, десять, пятнадцать - нет. Сказать вслух, что работа тяжела, - достаточно для расстрела. За любое самое невинное замечание в адрес Сталина - расстрел. Промолчать, когда кричат "ура" Сталину, - тоже достаточно для расстрела. Молчание - это агитация, это известно давно. Списки будущих, завтрашних мертвецов составлялись на каждом прииске следователями из доносов, из сообщений своих "стукачей", осведомителей, и многочисленных добровольцев, оркестрантов известного лагерного оркестра-октета - "семь дуют, один стучит", - пословицы блатного мира афористичны. А самого "дела" не существовало вовсе. И следствия никакого не велось. К смерти приводили протоколы "тройки" - известного учреждения сталинских лет.
И хотя перфокарты еще не были тогда известны, лагерные статистики пытались облегчить себе труд, выпуская в свет "формуляры" с особыми метками. Формуляр с синей полосой по диагонали имели личные дела "троцкистов". Зеленые (или лиловые?) полосы были у "рецидивистов" - разумеется, рецидивистов политических. Учет есть учет. Собственной кровью каждого его формуляр не закрасишь.
Еще за что расстреливали? "За оскорбление лагерного конвоя". Это что такое? Тут речь шла о словесном оскорблении, о недостаточно почтительном ответе, любом "разговоре" - в ответ на побои, удары, толчки. Всякий излишне развязный жест заключенного в разговоре с конвоиром трактовался как "нападение на конвой"...
"За отказ от работы". Очень много людей погибло, так и не поняв смертельной опасности своего поступка. Бессильные старики, голодные, измученные люди не в силах были сделать шаг в сторону от ворот при утреннем разводе на работу. Отказ оформляли актами. "Обут, одет по сезону". Бланки таких актов печатались на стеклографе, на богатых приисках даже в типографии заказывали бланки, куда достаточно было вставить только фамилию и данные: год рождения, статью, срок... Три отказа - и расстрел. По закону. Много людей не могли понять главного лагерного закона - ведь для него и лагеря выдуманы, - что нельзя в лагере отказываться от работы, что отказ трактуется как самое чудовищное преступление, хуже всякого саботажа. Надо хоть из последних сил, но доползти до места работы. Десятник распишется за "единицу", за "трудовую единицу", и производство даст "акцепт". И ты спасен. На сегодняшний день от расстрела. А на работе можешь вовсе не работать, да ты и не можешь работать. Выдержи муку этого дня до конца. На производстве ты сделаешь очень немного, но ты не "отказчик". Расстрелять тебя не могут. "Прав", говорят, у начальства в этом случае нет. Есть ли такое "право", я не знаю, но много раз много лет я боролся с собой, чтобы не отказаться от работы, стоя в воротах зоны на лагерном разводе.
"За кражу металла". Всех, у кого находили "металл", расстреливали. Позднее щадили жизнь, давали только срок дополнительный пять, десять лет. Множество самородков прошло через мои руки - прииск "Партизан" был очень "самородным", но никакого другого чувства, кроме глубочайшего отвращения, золото во мне не вызывало. Самородки ведь надо уметь видеть, учиться отличать от камня. Опытные рабочие обучали этому важному уменью новичков - чтоб не бросали в тачку золото, чтоб не орал смотритель бутары: "Эй, вы, раззявы! Опять самородки на промывку загнали". За самородки платили заключенным премию - по рублю с грамма, начиная с пятидесяти одного грамма. Весов в забое нет. Решить - сорок или шестьдесят граммов найденный тобой самородок - может только смотритель. Дальше бригадира мы ни к кому не обращались. Забракованных самородков я находил много, а к оплате был представлен два раза. Один самородок весил шестьдесят граммов, а другой - восемьдесят. Никаких денег я, разумеется, на руки не получил. Получил только карточку "стахановскую" на декаду да по щепотке махорки от десятника и от бригадира. И на том спасибо.
Последняя, самая многочисленная "рубрика", по которой расстреляно множество людей: "За невыполнение нормы". За это лагерное преступление расстреливали целыми бригадами. Была подведена и теоретическая база. По всей стране в это время государственный план "доводили" до станка - на фабриках и заводах. На арестантской Колыме план доводили до забоя, до тачки, до кайла. Государственный план - это закон! Невыполнение государственного плана - контрреволюционное преступление. Не выполнивших норму - на луну!
Третий смертный вихрь, уносивший больше арестантских жизней, чем первые два, вместе взятые, была повальная смертность - от голода, от побоев, от болезней. В этом третьем вихре огромную роль сыграли блатари, уголовники, "друзья народа".
За весь 1937 год на прииске "Партизан" со списочным составом две-три тысячи человек умерло два человека - один вольнонаемный, другой заключенный. Они были похоронены рядом под сопкой. На обеих могилах было нечто вроде обелисков у вольного повыше, у заключенного пониже. В 1938 году на рытье могил стояла целая бригада. Камень и вечная мерзлота не хотят принимать мертвецов. Надо бурить, взрывать, выбрасывать породу. Рытье могил и "битье" разведочных шурфов очень похожи по приемам работы, по инструменту, материалу и "исполнителям". Целая бригада стояла только на рытье могил, только общих, только "братских", с безымянными мертвецами. Впрочем, не совсем безымянными. По инструкции, перед захоронением нарядчик, как представитель лагерной власти, привязывал фанерную бирку с номером личного дела к левой лодыжке голого мертвеца. Закапывали всех голыми - еще бы! Выломанные, опять-таки по инструкции, золотые зубы вписывались в специальный акт захоронения. Яму с трупами заваливали камнями, но земля не принимала мертвецов: им суждена была нетленность - в вечной мерзлоте Крайнего Севера.
Врачи боялись написать в диагнозах истинную причину смерти. Появились "полиавитаминозы", "пеллагра", "дизентерия", "РФИ" - почти "Загадка Н.Ф.И.", как у Андроникова. Здесь РФИ - "резкое физическое истощение", шаг к правде. Но такие диагнозы ставили только смелые врачи, не заключенные. Формула "алиментарная дистрофия" произнесена колымскими врачами много позже - уже после ленинградской блокады, во время войны, когда сочли возможным хоть и по-латыни, но назвать истинную причину смерти. "Горение истаявшей свечи, все признаки и перечни сухие того, что по-ученому врачи зовут алиментарной дистрофией. И что не латинист и не филолог определяет русским словом "голод". Эти строки Веры Инбер я повторял неоднократно. Вокруг меня давно не было тех людей, которые любили стихи. Но эти строки звучали для каждого колымчанина.
Работяг били все: дневальный, парикмахер, бригадир, воспитатель, надзиратель, конвоир, староста, завхоз, нарядчик - любой. Безнаказанность побоев - как и безнаказанность убийств - развращает, растлевает души людей - всех, кто это делал, видел, знал... Конвой отвечал тогда, по мудрой мысли какого-то высшего начальства, за выполнение плана. Поэтому конвоиры побойчей выбивали прикладами план. Другие конвоиры поступали еще хуже - возлагали эту важную обязанность на блатарей, которых всегда вливали в бригады пятьдесят восьмой статьи. Блатари не работали. Они обеспечивали выполнение плана. Ходили с палкой по забою - эта палка называлась "термометром", и избивали безответных фраеров. Забивали и до смерти. Бригадиры из своих же товарищей, всеми способами стараясь доказать начальству, что они, бригадиры, - с начальством, не с арестантами, бригадиры старались забыть, что они - политические. Да они не были никогда политическими. Как, впрочем, и вся пятьдесят восьмая статья тогдашняя. Безнаказанная расправа над миллионами людей потому-то и удалась, что это были невинные люди.
Это были мученики, а не герои.
1964
Почерк
Поздно ночью Криста вызвали "за конбазу". Так звали в лагере домик, прижавшийся к сопке у края поселка. Там жил следователь по особо важным делам, как острили в лагере, ибо в лагере не было дел не особо важных - каждый проступок, и видимость проступка, мог быть наказан смертью. Или смерть, или полное оправдание. Впрочем, кто мог рассказать о своем полном оправдании. Готовый ко всему, безразличный ко всему, Крист шел по узкой тропе. Вот в домике-кухне зажегся свет - это хлеборез, наверное, сейчас начнет нарезать пайки к завтраку. К завтрашнему завтраку. Будут ли завтрашний день и завтрашний завтрак у Криста? Он этого не знал и радовался своему незнанию. Под ноги Кристу попалось что-то, непохожее на снег или льдинку. Крист нагнулся, поднял мерзлую корочку и сразу понял, что это - шелуха репы, обледеневшая корка репы. Лед уже растаял в руках, и Крист затолкал корочку в рот. Спешить явно не стоило. Крист обошел всю тропу, начиная от края бараков, понимая, что он, Крист, проходит первым по этой длинной снежной дороге, что еще никто до него не проходил здесь, по краю поселка, к следователю сегодня. По всей дороге к снегу примерзли, как завернутые в целлофан, кусочки репы. Крист отыскал их целых десять кусочков - одни больше, другие меньше. Давно уж Крист не видел людей, которые бросали бы в снег корки от репы. Это был не заключенный, вольнонаемный, конечно. Может быть, сам следователь. Крист разжевал и съел все эти корки - во рту его запахло чем-то давно забытым - родной землей, живыми овощами, и с радостным настроением Крист постучал в дверь домика следователя.
Следователь был невысок, худощав, небрит. Здесь был только его служебный кабинет и железная койка, покрытая солдатским одеялом, и скомканная грязная подушка... Стол - самодельный письменный стол с перекошенными выдвижными ящиками, туго набитыми бумагами, какими-то папками. На подоконнике ящик с карточками. Этажерка тоже завалена туго набитыми папками. Пепельница из половины консервной банки. Часы-ходики на окне. Часы показывали половину одиннадцатого. Следователь растапливал бумагой железную печку.
Следователь был белокож, бледен, как все следователи. Ни дневального, ни револьвера.
- Садитесь, Крист, - сказал следователь, называя заключенного на "вы", и подвинул ему старую табуретку. Сам он сидел на стуле - самодельном стуле с высокой спинкой.
- Я просмотрел ваше дело, - сказал следователь, - и у меня есть к вам одно предложение. Не знаю, подойдет ли это вам.
Крист замер в ожидании. Следователь помолчал.
- Я должен знать о вас еще кое-что.
Крист поднял голову и никак не мог сдержать отрыжки. Приятной отрыжки - неудержимого вкуса свежей репы.
- Напишите заявление.
- Заявление?
- Да, заявление. Вот листок бумаги, вот перо.
- Заявление? О чем? Кому?
- Да кому угодно! Ну, не заявление, так стихотворение Блока. Ну, все равно. Поняли? Или "Птичку" пушкинскую:
Вчера я растворил темницу
Воздушной пленницы моей.
Я рощам возвратил певицу,
Я возвратил свободу ей, -
продекламировал следователь.
- Это не пушкинская "Птичка", - напрягая все силы своего иссушенного мозга, прошептал Крист.
- А чья же?
- Туманского.
- Туманского? Первый раз слышу.
- А-а, вам нужна экспертиза какая-нибудь? Не я ли кого-нибудь убил. Или написал письмо на волю. Или изготовил магазинный чек для блатных.
- Совсем нет. Экспертизы такого рода нас не затрудняют. - Следователь улыбнулся, обнажив вспухшие десны, мелкие зубы, кровоточащие десны. Как бы ни была ничтожна эта сверкнувшая улыбка, она прибавила немножко свету в комнате. И в душе Криста тоже. Крист невольно поглядел следователю в рот.
- Да, - сказал следователь, поймав этот взгляд. - Цинга, цинга. Цинга здесь и вольных не оставляет. Свежих овощей нет.
Крист подумал о репе. Витамины - их больше в корке репы, чем в мякоти, - достались Кристу, а не следователю. Крист хотел поддержать этот разговор, рассказать о том, как он обсасывал, обгладывал корки репы, брошенные следователем, но не решился, боясь, что начальство осудит за чрезмерную развязность.
- Так поняли или нет? Мне нужно посмотреть ваш почерк.
Крист все еще ничего не понимал.
- Пишите! - диктовал следователь. - "Начальнику прииска. Заключенного Криста, год рождения, статья, срок, заявление. Прошу перевести меня на более легкую работу..." Достаточно.
Следователь взял недописанное заявление Криста, разорвал его и бросил в огонь... Свет печки на мгновение стал ярче.
- Садитесь к столу. С краюшка.
У Криста был каллиграфический, писарский почерк, который ему самому очень нравился, а все его товарищи смеялись, что почерк не похож на профессорский, докторский. Это не почерк ученого, писателя, поэта. Это почерк кладовщика. Смеялись, что Крист мог бы сделать карьеру царского писаря, о котором рассказывал Куприн.
Но Криста эти насмешки не смущали, и он продолжал сдавать на машинку четко переписанные рукописи. Машинистки одобряли, но втайне посмеивались.
Пальцы, привыкшие к кайлу, к черенку лопаты, никак не могли ухватить ручку, но в конце концов это удалось.
- У меня беспорядок, хаос, - говорил следователь. - Я сам понимаю. Но вы ведь поможете наладить.
- Конечно, конечно, - сказал Крист. Печка уже разгорелась, и в комнате было тепло. - Закурить бы...
- Я некурящий, - сказал следователь грубо. - И хлеба, у меня тоже нет. На работу завтра вы не пойдете. Я скажу нарядчику.
Так несколько месяцев раз в неделю Крист приходил в нетопленное, неуютное жилище лагерного следователя, переписывал бумаги, подшивал.
Бесснежная зима тридцать седьмого - восьмого года уже вошла в бараки всеми своими смертными ветрами. Каждую ночь по бараку бегали нарядчики, отыскивая и будя людей по каким-то спискам "в этап". Из этапов и раньше-то не возвращались, а тут перестали и думать о всех этих ночных делах - этап так этап - работа была слишком тяжела, чтобы думать о чем-либо.
Увеличились часы работы, появился конвой, но неделя проходила, и Крист, еле живой, добирался до знакомого кабинета следователя и подшивал, подшивал бумаги. Крист перестал умываться, перестал бриться, но следователь словно не замечал впалых щек и воспаленного взгляда голодного Криста. А Крист все писал, все подшивал. Количество бумаг и папок все росло и росло, их никак нельзя было привести в порядок. Крист переписывал какие-то бесконечные списки, где были только фамилии, а верх списка был отогнут, и Крист никогда не пытался проникнуть в тайну этого кабинета, хотя было достаточно отогнуть листок, лежащий перед ним. Иногда следователь брал в руки пачку "дел", которые возникали неизвестно откуда, без Криста, и, торопясь, диктовал списки, а Крист писал.
В двенадцать диктовка кончалась, и Крист шел в свой барак и спал, спал - завтрашний развод на работу его не касался. Проходили неделя за неделей, а Крист все худел, все писал.
И вот однажды, взяв в руки очередную папку, чтобы прочитать очередную фамилию, следователь запнулся. И поглядел на Криста и спросил:
- Как ваше имя, отчество?
- Роберт Иванович, - ответил Крист, улыбаясь. Не будет ли следователь звать его "Роберт Иванович" вместо "Крист" или "вы" - это бы не удивило Криста. Следователь был молод, годился в сыновья Кристу. Все еще держа в руках папку и не произнося фамилии, следователь побледнел. Он бледнел, пока не стал белее снега. Быстрыми пальцами следователь перебрал тоненькие бумажки, подшитые в папку, - их было не больше и не меньше, чем и в любой другой папке из груды папок, лежащих на полу. Потом следователь решительно распахнул дверку печки, и в комнате сразу стало светло, как будто озарилась душа до дна и в ней нашлось на самом дне что-то очень важное, человеческое. Следователь разорвал папку на куски и затолкал их в печку. Стало еще светлее. Крист ничего не понимал. И следователь сказал, не глядя на Криста:
- Шаблон. Не понимают, что делают, не интересуются. - И твердыми глазами посмотрел на Криста. - Продолжаем писать. Вы готовы?
- Готов, - сказал Крист и только много лет спустя понял, что это была его, Криста, папка.
Уже многие товарищи Криста были расстреляны. Был расстрелян и следователь. А Крист был все еще жив и иногда - не реже раза в несколько лет - вспоминал горящую папку, решительные пальцы следователя, рвущие кристовское "дело", - подарок обреченному от обрекающего.
Почерк Криста был спасительный, каллиграфический.
1964
Утка
Горный ручей был уже схвачен льдом, а на перекатах ручья уже вовсе не было. Ручей вымерзал с перекатов, и через месяц от летней, грозной, гремящей воды не оставалось ничего, даже лед был вытоптан, измельчен, раздавлен копытами, шинами, валенками. Но ручей был еще жив, вода в нем еще дышала - белый пар поднимался над полыньями, над проталинами.
Обессилевшая утка-нырок шлепнулась в воду. Стая давно пролетела на юг, утка осталась. Было еще светло, снежно - особенно светло из-за снега, покрывшего весь голый лес, все до горизонта. Утка хотела отдохнуть, немного отдохнуть, потом подняться и лететь - туда, вслед стае.
У нее не было сил лететь. Стопудовая тяжесть крыльев гнула ее к земле, но на воде она нашла опору, спасенье - вода на полыньях показалась ей живой рекой.
Но не успела утка оглядеться, передохнуть, как тонкий ее слух уловил звук опасности. Да не звук - грохот.
Сверху, со снежной горы, обрываясь на мерзлых, еще застывающих к вечеру кочках, бегом спускался человек. Он увидел утку давно и следил за ней с тайной надеждой, и вот надежда сбылась - утка опустилась на лед.
Человек подкрадывался к ней, но оступился, утка заметила его, и тогда человек побежал не таясь, а утка не могла лететь - устала. Ей нужно было только подняться вверх, и, кроме злобных угроз, ничего бы ей не угрожало. Но чтоб подняться в небо, нужны силы в крыльях, а утка слишком устала. Она сумела только нырнуть, исчезла в воде, и человек, вооруженный тяжелым каким-то суком, остановился у полыньи, куда нырнула утка, ждал ее возвращения. Ведь надо же будет утке дышать.
В двадцати метрах тоже была такая же полынья, и человек, ругаясь, увидел, что утка проплыла подо льдом и вылезла в другую полынью. Но летать она и там не могла. И секунды тратила она на отдых.
Человек попробовал обломать, раздавить лед, но обувь его из тряпок не годилась.
Он бил палкой по синему льду - лед чуть крошился, но не ломался. Человек обессилел и, тяжело дыша, сел на лед.
Утка плавала в полынье. Человек побежал, ругаясь и бросая камнями в утку, и утка нырнула и появилась в первой полынье.
Так они бегали - человек и утка, пока не стемнело.
Была пора возвращаться в барак с неудачной охоты, случайной охоты. Человек пожалел, что потратил силы на это безумное преследование. Голод не давал подумать как следует, составить надежный план, чтобы обмануть утку, нетерпение голода подсказало неверный путь, плохой план. Утка осталась на льду, в полынье. Пора было возвращаться в барак. Человек ловил утку не затем, что-бы сварить птичье мясо и съесть. Утка ведь птица, мясо, не правда ли? Сварить в жестяном котелке или еще лучше - закопать в золу костра. Обмазать глиной утку и зарыть ее в горящую лиловую золу или просто бросить в костер. Костер прогорит, и глиняная оболочка утки лопнет. Внутри будет горячий скользкий жир. Жир потечет на руки, будет стынуть на губах. Нет, вовсе не для этого ловил человек утку. Смутно, туманно в его мозгу вставали, строились другие зыбкие планы. Отнести эту утку в подарок десятнику, и тогда десятник вычеркнет человека из зловещего списка, который составлялся ночью. Об этом списке знал весь барак, и человек старался не думать о невозможном, о недоступном, как бы избавиться от этапа, как бы остаться здесь, на этой командировке. Здешний голод можно было еще терпеть, а человек никогда не искал лучшего от хорошего.
Но утка осталась в полынье. Человеку очень трудно было самому принимать решение, совершить поступок, действие, какому не научила его повседневная жизнь. Его не учили погоне за уткой. Оттого и движения его были беспомощны, неумелы. Его не учили думать о возможности такой охоты - мозг не умел правильно решать неожиданные вопросы, которые задавала жизнь. Его учили жить, когда собственного решения не надо, когда чужая воля, чья-то воля управляет событиями. Необычайно трудно вмешаться в собственную судьбу, "преломить" судьбу.
Может быть, все к лучшему - утка умирает в полынье, человек в бараке.
Замерзшие, поцарапанные о лед пальцы с трудом согрелись за пазухой - человек каждую ладонь, обе ладони засунул за пазуху одновременно, вздрагивая от ноющей боли отмороженных навек пальцев. В голодном его теле было мало тепла, и человек вернулся в барак, протискался к печке и все же не мог согреться. Тело дрожало крупной дрожью неостановимо.
В дверь барака заглянул десятник. Он тоже видел утку, видел охоту мертвеца за умирающей уткой. Десятнику не хотелось уезжать из этого поселка - кто знает, что его ждет на новом месте. Десятник рассчитывал щедрым подарком - живая утка да "вольные" брюки - умилостивить сердце прораба, который еще спал. Проснувшись, прораб мог вычеркнуть десятника из списка - не того работягу, который поймал утку, а его, десятника.
Страницы
предыдущая целиком следующая